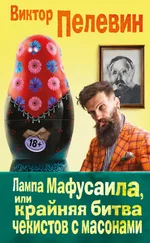Тогда, словно прочтя эту мою мысль, вы, Елизавета Петровна, нежно и тихо спросили – в каждой из переживаемых мною сцен одновременно – точно ли меня устраивает такое положение дел?
И я, признаюсь, ответил, что вполне.
Тотчас все переменилось. Картины восточного наслаждения куда-то исчезли, и осталась лишь одна комната с ложем – но теперь я был к нему привязан за руки и за ноги, а рядом появились вы, с гневно искаженным лицом (о, как вы были прекрасны в этот миг!) и кнутом в руке.
Вы демонически захохотали, и в глазах ваших сверкнула ненависть. А затем вы обрушили на меня свой карающий бич.
И тут произошло нечто немыслимое.
Да, мне было больно, и очень – но куда сильнее боли оказалось нахлынувшее на меня упоение от того, что эту боль причиняете мне вы сами лично, а значит, в сердце вашем несомненно горит устремленный в моем направлении жаркий пламень, а уж гнев это или страсть… Велика ли между ними разница? Они пылают одинаково ярко и переходят друг в друга.
Признаюсь, что здесь примешалось и несколько ощущений совсем иной природы, о которых приличия велят мне промолчать – скажу только, что вместо крика боли я издал вой восторга. Я и не знал прежде, что настоящее наслаждение начинается за пределами всего мною изведанного.
Этот мой счастливый возглас оказался для вас неожиданностью – потому что в ваши планы явно не входило продолжение валтасарова пира.
И тогда словно бы маска слетела с вас, Елизавета Петровна, и я понял, что на самом деле это не вы…
Надо мной нависала одна из этих зеленых чертовок, самая большая и темная из всех, что я видел. Гульфик ее был отчетливого фиолетового цвета, значительно больше, чем у других – и ярко светился в полутьме; именно он излучал нахлынувший на меня морок, заставивший принять ее… то есть его – за вас.
Я делаю эту оговорку, потому что в тот же момент в мою голову раскаленным гвоздем вонзилось понимание, что передо мной стоит самая главная демоница из всех, и на земном языке ее следует именовать «Маршал А», называя в мужском роде даже мысленно.
А потом маршал А принялся яростно хлестать меня, хоть никакого кнута в его руке я уже не видел: удары каким-то образом исходили прямо из фиолетового, так сказать, протеза, который от них разгорался все ярче и ярче.
Моя издевательская корона слетела с головы и покатилась в угол. Удары, невероятно болезненные и сильные, заставили меня сжаться в комок – а потом я почувствовал, как само мое мужское достоинство начинает съеживаться и изменяется в женскую причинную часть. И с каждым ударом я все уменьшался и уменьшался, пока маршал А не превратил меня в лишенную пола пылинку – и не выкинул из сна последним щелчком своего невидимого бича.
Хочу заметить, Елизавта Петровна, что именно с той минуты, говоря об этих кошмарных созданиях, я преимущественно употребляю мужской род. Видимо, когда гимназические учителя утверждают, что розги способствуют запоминанию, это правда.
* * *
В подвале все было по-прежнему.
Увидев, что я пришел в себя, Капустин криво улыбнулся.
– Главное, не смейтесь, – сказал он тихо. – Говорить можно что угодно, но вот смеха они не переносят. У них с подобных сокращений гортани когда-то начинался ритуал оплодотворения, и они принимают смех за мужскую половую агрессию. Называть их можете как хотите, только при этом не хихикайте…
Я кивнул. Тогда он спросил меня, уже громко, словно специально стараясь привлечь к нашему разговору внимание:
– Теперь поняли, да?
Я опять кивнул.
– Вот отсюда и растет весь феминизм , – сказал он.
– А что это такое – феминизм? – спросил я.
– Я объясню, – ответил Капустин. – Вы «Капитал» Маркса читали?
Признаться, что я не читал Маркса, показалось мне ужасным моветоном, поэтому я уклончиво качнул головой, так что понять меня можно было в любом смысле.
– Тогда можно по аналогии с проституцией, – продолжал Капустин, еще сильнее возвышая голос, чтобы его точно услышали все в подвале. – Проституция – это когда из пизды извлекают прибыль. А феминизм – это когда из пизды хотят извлечь сверхприбыль.
– Не позорьтесь, генерал, – хмуро сказал Димкин. – У Маркса про сверхприбыль нет. Про это у Ленина. У Маркса про прибавочную стоимость.
– Во-во-во! – с энтузиазмом подхватил Капустин. – Прибавочная стоимость за ту же мохнатку. Я про это именно и говорю.
– Мохнатка – это язык ненависти, – без энтузиазма отозвался профессор Берч.
– Нет, – ответил Капустин так же громко, – вы нас своими гаитянскими методами не зомбируйте. Мохнатка – это именно мохнатка, а никакой не язык…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу