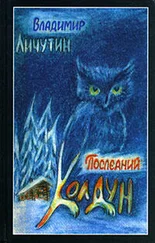— Ты, значит, так, Геласий Созонтович… Перепираться мы не будем, как две бабы у колодца. Турусы разводить тоже не время. Дебаты на собраньях надоели, во где торчат. — Чикнул себя по шее. Старался Радюшин говорить миролюбиво, но разве можно смягчить железную окалину в голосе, если она незнаемо когда нагорела; разве возможно снять хриплую ржавчинку, если ее не слышит душа. — Давай миром, а? Одной ногой в могилевской, а все в пузырь лезешь… Я бы с тобой мог по-другому. Раз — и дело с концом. Ты слышишь, старик? — Радюшин вгляделся в широко распахнутые простиранные глаза старика и был больно уязвлен их равнодушием и немотою. Творожно белели глаза, и ничего в них не читалось, кроме далеко спрятанной дьявольской насмешки. И в душе чертыхнулся председатель, понял, что зря слова тратит. — Ты что, глухой? — И, не совладав с раздражением, невольно прихватил Геласия за костлявое плечо. — Дом, говорю, срубили… печь русская. Ты войди в положение, мил человек. Школа по плану на этом месте. Чего ты выворотнем, а? Не на улицу ведь гоним.
Но старик беззвучно шевелил губами и глядел сквозь Радюшина. Его сознанье опять куда-то откатилось, и чудились ему за спиной гостя веселые дудки и пляс нездешних людей. Подумалось: сам-то пришел незваный да и чертову силу приволок. Пляшут, а без топоту, вроде бы воздух толкут. Председателев голос отвлекал, мешал слушать, и старик сурово оборвал:
— Да погоди, не мельтешись. — Плечу было больно (как клещ, впился Радюшин), и Геласий резко стряхнул чужую ладонь. Снова поглядел в дальний угол, но там уже никого не было. «Знать, поблазнило», — успокоил себя. — Никуда не поеду, любить твою бабу. Мне вашего дома не надо. У меня своя изба. Здесь родился, тут и успокоюсь.
— Мы тебя силком. На кровати стащим.
— Ваша власть, — сказал равнодушно. — А только мне вашего добра не надо. Я добра просил от вас? Не-ет. Так чего вы допираете до меня? Ты мне спокой дай в остатние дни, спокой. Скоро я вольный буду… Мне-то уж все, какой-то годик пожить. Нашелся добренький. Мне на твою-то доброту… — Геласий кричал уже, его била крупная дрожь, и председатель, распаленный разговором, нудной бестолковщиной, тоже закусил удила, и понесло его, слепого от гнева:
— Ты не ори на меня, кулацкий потрох. Я тебе кто, а? Ты мое доброе имя не топчи. Всю жизнь для себя прожил и до меня не касайся… Я теперь все с тобой могу! Я еще добрый. Привыкли ездить, да чтоб ножки свесить. Я кузькину мать покажу!
— На князек залез? — неожиданно стих Геласий, а может, устыдился крика или устал от него. Но странное дело: черные мушки уже не толклись в глазах, и дышалось сейчас куда ровнее. — Не ты, Радюшин, первый, не ты и последний. Пусть я кулацкий потрох и убивец, все для себя тяну. А ты, значить, ангельского подобья, ни кушать не хочешь, ни справлять нужду. Тогда слезай с князька, ну! А-а… духу не хватает, духу. Кто ты будешь? Да никто, Колька Азия, разве назем сгодишься возить — и все. Нашелся благодетель, отец наш. Он, значить, любить твою бабу, все делает, а мы с его руки готовенькое кушаем. Хых-хых…
Сел на лавку, довольно охлопал усохшие ляжки и жиденько засмеялся. Потом не глядя снял с божницы толстые очки в самодельной проволочной оправе и ловко оседлал переносье:
— Ну-ко, дай полюбопытствовать… какой ты хороший да баской.
— Гляди пуще напоследок, гнус лесной. Завтра же отдам команду, чтоб трактором спихнули эту заваль.
— Смелей, ты смелей, дитятко. И неуж не боисся? — В распахнутых навыкате глазах старика появилось откровенное удивление. — Воистину, как в сказке о рыбаке и рыбке: чем дальше, тем больше надо. Откуда зло в тебе? Добра, говоришь, людям хочешь, а в тебе зло одно.
Рот, запеленутый бородой, едва колыхался, и казалось, звук исторгался из самой глуби тщедушного тела. Радюшин еще с ненавистью всмотрелся в горбоносое, с проваленными щеками лицо, в покатый, далеко открытый лоб, как-то странно выпяченный верхним тусклым светом, и неожиданно смутился. «Колдун, говорят, а может, и есть колдун? — подумал с далеким беспокойством в душе, пристально проникая за очки, в совиные глаза Геласия, но тут же отмахнулся от призрачно вспыхнувшей мысли. — Бред собачий. Людям бы плести чего».
— Завтра же трактор пришлю, слышь! И к чертовой матери…
… — Ну и командер, ну и мушиный царь. Это я, значит, кулацкий потрох, — бормотал обиженный старик, прислушиваясь к затихающим шагам и невольно улавливая настороженным ухом каждый шорох и вздох огромной избы. — Ой те-те, сынок. Я до двенадцати лет штанов на жопы не нашивал, это как воспринять? Во-о. Рубаха долга, своеткана, да опояска, еще опорки кожаны, в том и ходил до возрасту. Шестеро было у отца, да все махоньки. А когда наживать замог, ну и камаши заимел. Еще калошей-то не знал, не-е… Это кто побогаче — кальсоны белы, рубаха с поясом и ключ на шнурке, калоши кожаны и носки по колена. Так все и вспомянешь, любить твою бабу. По тем-то меркам, дак нынь каждый кулак… Ой, Азия, как старого дедку обкастил, какое слово вывернул. За отца своего утыкивает, за Разруху, сколь злопамятный. А чего утыкивать, спрашивается? Жизнью замолил. И вины там моей с ноготь — не боле. Ну дал по башке бутылкой, дак разве знамо было, что его и кончат же вскорости…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу