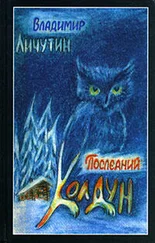Особенно приникали к радио, включали на полную мощность в канун праздника. Привычно ждали известия весь день и, где-нибудь под вечер, диктор объявлял о снижении цен; пусть и ненамного, но жизнь не только дешевела, но сразу оживала, в неё словно бы добавляли бродильных дрожжец; в этой, казалось бы, непобедимой темени, навалившейся на страну, вдруг появлялась расщелинка, в неё пробивался согревающий душу солнечный луч и расплавлял, разжижал то вселенское горе, что за годы войны плотно укупорило русский народ. И каждый раз такое сообщение не превращалось в торжество плоти, — она как-бы тушевалась, замирала на короткое время, — но становилось праздником духа; значит, будем живы, не помрем; братцы мои, если уж немца истолкли в прах, то и всё прочее тоже перемелем в муку. Только, вот, родимых мужиков так жалко, на войне остались, а то бы и они, сердешные, порадовались вместе с нами. (И вот сейчас, когда пишу эти строки, думаю: Господи, как мало человеку надо, чтобы удоволить сердце свое, умирить печаль, поновить благодатью душу. Каждое понижение цен для души было подобно долгожданному дождю на истомившуюся пашню. И в этом маленьком счастии нынешние жестокосердые управители отказывают простецу-человеку, но хотят, чтобы их почитали.)
Когда мамы не было дома, я несколько раз снимал с гвоздя пыльную черную тарелку, бархатную на ощупку, чтобы разглядеть ее с изнанки, но находил лишь пятно на обоях и два серых жгута, уходящих на волю сквозь бревенчатую стену. Значит, голоса попадали в дом с улицы по проводам, зимою мохнатым от инея, мерно гудящим, от серого морщиноватого от непогоды столба с белыми опрокинутыми чашками, на макушку которого, насунув на сапоги хищные клацающие когти, ползал плешеватый голубоглазый ремонтер, однажды сбивший с панталыки сердце моей матери. С вершины столба он, наверное, бросил взгляд в наше окно, увидел в комнатушке красивую молодую вдову, и глаза их нечаянно встретились.
Для нас в монтере все было занимательно: и широкий кожаный пояс, и стальная цепь, которою он обхватывался вокруг бревна, и хищно загнутые когти; да и взбирался мужик на верхотуру так ловко, что нас, пацанов, невольно брала завидка. Он был покорителем неба, птицы летали вровень с его головою, со своей верхотуры почтарь видел весь городок, утонувший в снегах, и поскотину с рыжей прерывистой ниткой санной дороги, и урез речного берега, обставленного ледяными ропаками… А мы видели лишь голубоватые заструги забоев, бахрому снежной навеси на крыше и пристоптанные в каблуках, изморщенные керзовые сапоги связиста, с которых сыпалась нам в лицо снежная стружка. Но мы, военные дети, все схватывали на лету; наверное, не успел ремонтер чаем обогреться на службе, как мы уже скрутили петлю из проволоки, приладили к валенку и, похваляясь друг перед дружкой, принялись отчаянно ползать по мерзлому столбу к поющим проводам.
С радио получилась у меня занятная штуковина. С Вовкой Манькиным, моим приятелем решили смастерить вентиляторы: представилось, вот сидишь за столом за уроками, а тебе в лицо дует прохладный ветерок, ворошит волосы, жужжит моторчик, перемалывают воздух гнутые лопастки. А на дворе мороз, окна в узорах, сугробы под крышу. Ну, взялись за работу, стали резать жесть, клепать и паять. А стоял на дворе, пожалуй, год пятьдесят четвертый, когда в Мезень от рабочего поселка Каменка наконец-то протянули по дну реки кабель и дали долгожданный свет. Вот и в нашем углу вспыхнула под потолком лампочка. Ну, прямо собственное солнце на дому, как по заказу: щелкнул выключатель, — светит, ослепнуть можно, снова щелкнул — потухло. Вовка Манькин — парнишка рукодельный, густые волосы ершом, круглые щеки заревом, с затылка видать. Наверное, с неделю корпели. В руках приятеля сразу все сладилось и согласно притерлось: и моторчик ровно запел, и лопастки из жести испустили упругий вихорёк нам в лицо, распушил волосы, так что пришлось зажмуриться от блаженства. Потом включили мой механизм: ни гу-гу. Значит ошибся, когда набирал пластинки статора и мотал якорь. Горестный, я вернулся от соседа домой, обежал глазами комнатенку. Взгляд мой уткнулся в черную тарелку в переднем простенке, похожую на мамин берет. Непонятно зачем, иль просто из отчаяния, я вскочил на табуретку и воткнул свою «работу» в розетку радио, — и о чудо! — мой моторчик вдруг заговорил бархатным голосом, потом запела Лидия Русланова: «Ой, валенки, валенки, не подшиты стареньки.» (После мне так и не могли объяснить, что за «изделие» вышло из моих рук.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу