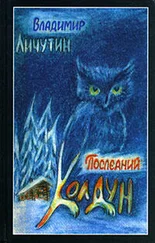Вышла Тосина мать, едва различая в темноте учителя, сказала сверху: «Владимир Петрович, вы меня слышите?.. Оставьте мою дочь во спокое. Ведь сердцу не прикажешь. Не любит она вас и видеть не хочет. Она ведь еще совсем девочонка, еще в зрелую пору не вошла, а вы ее донимаете… Ступайте, ступайте. Уже вся деревня над вами надсмехается. Доколь еще людей смешить да скоморошничать..?».
В живых от тех событий осталась лишь тетя Аниса, та самая Аниська, девочка лет девяти, что таскала записки влюбленным. Всю жизнь была она «песельницей», плясуньей, гостей привечать любила, а теперь старуха-вопленница с сухим, будто обожженым изнутри, смуглым лицом и лихорадочным взглядом, — так обстрогали ее годы к старости. Тетя Аниса рассказывала мне, как Владимир Петрович выламывал двери в избе Житовых, добиваясь свидания с Тоней.
Остались лишь воспоминания матери, мной записанные, и отцовы письма.
Во вдовьей жизни нет ничего страшнее, оказаться без дров, особенно на крайнем севере; голод не так страшит, можно как-нибудь извернуться из кулька да в рогожку, призанять денежку до аванса, перехватить мучицы, сахарку, кислой рыбки, иль задешево купить куропатку у промысловика, что без лесовой дичи не живет. Но без дровишек и на своей печи замерзнешь, превратишься в корчушку, мороженую наважку. А попросить полено на истопку даже у ближних соседей язык не повернется — засмеют. Без дров, милые мои, и на своей печи около трубы околеешь.
У кого в дому мужик, тем куда легче: пусть и косоногий, с березовой култышкой на ремнях, иль косорукий, с подоткнутым за опояску пустым рукавом, кривоглазый, иль пьянь-пьянью, вздорный и матерщинный, что с ременкой гоняет жену с печи на полати. Ой, миленькие мои, да только бы с полным «кисетом», с боевым михером вернулся, а тогда и радость сердечная продлится, и дети не заставят себя ждать, ибо многой плодильной силы накопили русские солдатики за войну, и ошалелые бабы, казалось, рожали даже от жаркого поцелуя иль помывшись в городской бане после «мужского дня». Сталин верно сделал, запретив аборты под страхом тюрьмы, сознавая спасительное, неукротимое природное влечение к детям. «Родилку» наглухо не зашьешь веретенкой.
Ведь у русского, кроме Бога и земной страсти, есть еще и жалость, и сострадание, и готовая для ласки душа, и совесть, и то самое «Авось», который за вихры вытянет человека из самой-то «безнадеги». Дескать, у Господа не без милости, где шестеро толстокоренышей по лавкам, там и для седьмого хлебенный кусок найдется и ситцевая рубаха. А если и порточков нет, и босым дитешонок бегает середка зимы по студеному полу, — так то, братцы, не беда, которой бояться надо. Были бы кости, а мясо нарастет. Беда, когда детей Бог не попускает на свет. И муж погиб, и под боком никого, вот и доживай век сиротою, как бы внапраслину.
После войны, когда до вдовьего сердца дошло окончательно, что ждать уже некого, что надо свой век самой устраивать, а плоть земная укорливая, привередливая, ей тоже сладенького хочется, и по ночам выказывает она себя во всю нутряную силу, — и вот выплакавшись в подушку в последний раз и, оставив за чертой прежнюю жизнь с благоверным, бабеня невольно начинает зыркать взглядом по встречным-поперечным, высматривать мужичонку пусть и завалящего иль занятого и многодетного, смущать его, подвигать хоть бы на разговленье, на один утешливый часок, а там, как Бог даст: кому краюха с маслом приведется, а кому житняя черствая кроха на один зубок.
И вот помню, что «сколотные», «байстрюки», «выблядки», стали рожаться в нашем околотке, как грибы после дождя, почитай через дом. Но к ним никакого небрежения не было, как и к матерям их, ребятишки были нашего, русского племени, и росли для будущей русской дружины, для общего, государственного делания. И грубоватая приговорка: «Отцов, как псов, а мать родна — одна», вдруг не то чтобы померкла, но повернулась вдруг неожиданной, благодарной стороною. Когда молодые мужики остались в окопах, то «Счастливцевым», вернувшимся с фронта, и тыловикам невольно пришлось заменять «Несчастливцевых», и неожиданно «плодильная сила» человека оказалась для государства в особой цене. Как бы вдруг по всей России, даже в самых-то ее затерянных окрайках, был открыт второй фронт по восполнению русского племени. Теперь за свободного, что в силе, мужичонку женщины порою и поленьями дирывались и платье в лоскуты полосовали. Любви вдовице хотелось сильнее, чем хлеба. И невольно позабывалось, что ребенок не только счастие, но и ярмо добровольное, его с плеч не скинешь, как беремя сена, а надо тащить на себе до скончания жизни. (Вот так и в нашей семье через десять лет после ухода отца в армию появился братик Вася.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу