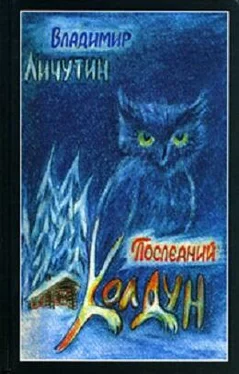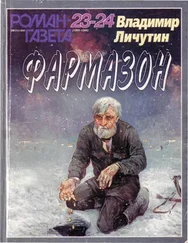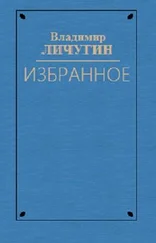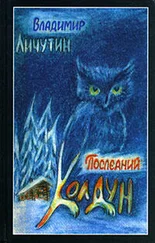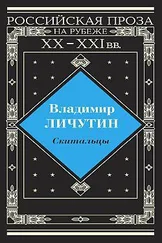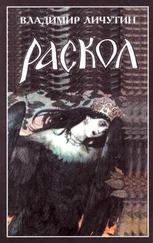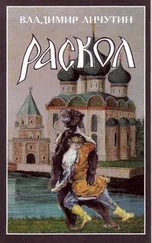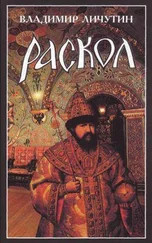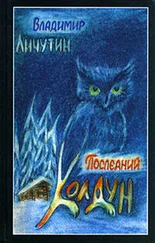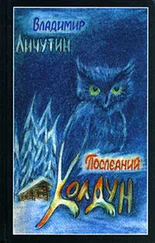— Ныне им и вечерка не вечерка. Нет бы дома сидеть. Вовсе оглупали с этима цыганятами. Блазнят они да поманывают дурочек, вот и повадились те к нехристям ходить.
— Это черт приваживает… Такое дикое время, когда Бога забыли и все попустились на дурное, — осуждали старухи, перемывая девьи косточки.
— Будто там медом намазано, так и тянет их туда.
— Дали волю, вот и галят, как оглашенные, вот и жжет да палит кунку дикошерстну.
— Вот уж сглазят котору ли, как девку Сару… Тогда очнутся поди.
— Нынче ведь как повелося. В подоле дитё притащат, как в лавку сбродят за куплею. Скажут: на, мати, водися… Эх-ма.
— Набуздаешь, и дедко даст плетюганов, и станешь, милая моя, водиться, куда денешься. Своя кровя.
Послушал деревенский учитель бабьи пересуды, и так вдруг одиноко стало на белом свете, так неприютно — хоть плачь. И уже прижаливал, клял себя за робость, что вот не кинулся следом; там, небось, весело сейчас, дым коромыслом, кострище палят до небес; Тоська, поди, с ухажером в обнимку, чего им теряться вдали от родительского глаза. Вернулся учитель на постой в свою половину, накинул на дверь крючок и впервые за последний месяц развел в непроливашке сажных чернил: «О, любовь — это летняя ночь со звездами на небе и благоуханием на земле! Почему она заставляет юношу красться по потаенной дороге, а старика горько рыдать в своем одиноком углу?! Ах, любовь превращает сердце человека в сад, пышный и бесстыдный сад, в котором разрастаются таинственные и ядовитые грибы».
Девушку Сару увели цыгане из Мезени самоходкой. Уж как они забрели на дальний Север, какая нужда их толкнула на Белое море, но только за шарком на поскотине, напротив города, они стояли табором все лето, и тем на долгие годы остались в памяти гулевые беспокойные люди, что один цыганенок чем-то обавил, улестил, обворожил юную мещаночку, и она, как ослепленная, села в цыганскую кибитку и, несмотря на плачь родителей, на увещевания соседей, сошла из города навсегда. По дороге они остановились у Жерди, искали на селе постоя, и древняя морщинистая цыганка, обвешанная монистами, прицепилась к учителю: «Дай погадаю, молодой, красивый. Вижу, на душе у тебя горе по службе. Позолоти ручку, положи на ладонь денежу. Не бойся, не украду. Всю правду скажу, что выпадет в жизни».
«Соврешь — не дорого и возьмешь, старуха… — Отказывался, вроде бы, учитель, пугаясь темных глаз гадалки, а душою-то хотел узнать судьбу и значит тайно верил предсказанию. — Ну откуда тебе, бродяжка, видеть, что у меня впереди?»
И сунул ей в ладонь монетку.
Лет пять было ему, когда наезжая молдаванка нагадала Петру Назаровичу, что его старший сын потеряется: «Его ни вода не возьмет, ни пуля, но он потеряется». Ребенок глубоко спрятал предсказание в памяти, но оно, оказывается, не пропадало никогда. Оно пригнетало и тревожило, навевало в душе мрак и морок. А вдруг сейчас старуха подтвердит насуленное?
«И откроется тебе в жизни дорога, — привычно запричитывала цыганка. — Но в ней печаль случится через женщину. Две их будет, я вижу, что две. Одна полюбит, а другая погубит. Той, другой бойся. Позолоти ручку, сынок, все скажу, как есть и что будет…»
«Иди прочь, старая», — с облегчением выдохнул учитель. Подумал: «Все врут. Ходят, собирают сплетни, а после врут. Где она, судьба-то, и кто знает свой час?»
(И третий раз ему было от цыганки предсказание уже в тридцать девятом году летом, осенью. Через месяц его забрали в армию. Мама моя те гневные посулы, оказавшиеся вещими, запомнила на всю жизнь и не раз вспоминала мне.)
* * *
Но стоит сказать, что в крестьянской семье отношение к девочке было зачастую чисто практическим; зная о недалеком неизбежном будущем, ее сразу воспитывали, как будущую хозяйку и мать, ее уже сызмала растили на «выход», на чужую сторону, годами прикапливали приданое, — белье, перины, платье, одеяла, — она ткала на будущую семью холстину, вязала кружева, рукавицы и носки, шила ширинки, полотенца, кофты и юбки, у нее в сундуке обязательно был схорончик, где по грошику собиралась на свадьбу денежка, в семье дочку хоть и прижаливали и любили особой любовью, окрашенной грустью и скорым расставанием, но и часто потарапливали, чтобы не засиделась в девках, а то и сватали, выдавали «силком» в чужую деревню за старика с имением и землею… Если в шестнадцать лет она невеста-хваленка, водит по престольным в большом хороводе, она — наряжуха и песельница, выходит на посмотрение народу в столбовом наряде, чтобы показаться деревенскому парню во всей красе, и после удачного замужества этот наряд прячется в сундук и покоится в нем, уже как приданое для дочери; но если минуло за двадцать, то девушка отныне — вековуха, она упала в цене, ею как бы брезгуют парни, но и готовы «сладенькое разлизать», это девица второго разряда, как бы гриб-обабок, уже оплывший на одну сторону… О том на Мезени в любом застолье пели: «Когда цвет розы расцветает, то всяк старается сорвать. Когда цвет розы опадает, то всяк старается стоптать… Когда девице лет семнадцать, то всяк старается любить, когда девице лет за двадцать, то всяк старается забыть….»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу