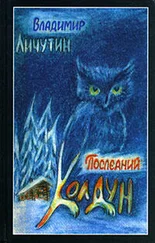— Че? — приставил дед Геласий к бледному уху ладонь.
— А ну тебя, совсем глухой, — махнула на него рукой внучка и опять погладила мужа по спине. Тот пьяновато улыбался, и жмурилось в желании белобрысое незаметное лицо.
— Он глухой стал, — тоже обратился к Степушке. — А так еще центральные газеты читает.
— Шустрый он, — добавила толстоногая жена. — Было намерились в другой дом переселять, так он куда там… Говорит, если и на руках унесете и избу по бревнышку раскатаете, и тогда койку приволоку на родное пепелище и тут спать буду, — восторженно говорила она, успевая заедать слова терпким зеленым луком.
— Не посмеют, — сказал белобрысый муж. — И ничего тут не сделать.
— Я и говорю, не посмеют, я и в райисполком тогда ходила, сказали, нет такого закона, чтобы в другой дом переселять. Так три года председатель выкручивался, мол, по генплану тут клуб положен. А кто его знает, где положено, природы много. Построили на другом месте, и ничего не случилось…
— Прихиляется он.
— Мстит. А чего мстить, ведь и время прошло. Будто бы наш дед отца у председателя убил. А не доказано.
Старик сидел каменно, ушедший в себя, и мягко посверкивали электрическим светом толстые стекла очков. Он ничего не ел, а только выпил стопку водки, и сейчас сухие щеки наливались пламенем.
— Крест из сухой елины срублен, на повети стоит, и доски выструганы на гроб, все готово, а смерти нет, — вдруг вмешался в разговор дед Геласий.
— Ну, завели, будто на поминках, до ста лет жить нашему деду, давай за него стопки допьем, — перебила отца Матрена.
А Ксения добавила:
— Так ты чего, Степушка, не жениссе?
— Лошади-то моего возраста все подохли, вот я и не женился.
— Ну и гопник, — с явным восторгом опять сказала тетка Ксения.
А Параскева за стол так и не села, хотя устали ее приглашать и затаскивать.
— Не-не, не сяду. Вы вино пьете, а оно уж мне даром не нать.
Параскева так и осталась в сторонке, как сиротина, не сводя за весь вечер со Степушки глаз, и думала, что город ничего хорошего сыну не дал, только разве на плохое наставил, вон как рюмку пригибает, а ведь ране столько не пил, да и говорит что-то непутное.
А когда разносили чай, уже Матрена стала упрашивать:
— Неуж, Параня, и чашечку не выпьешь? К тебе как ни зайдешь, все самовар на столе, уж манеры мы не имеем такой, чтобы отказаться. Садись давай.
— Не-не, я даве пила, как к вам пойти, Степушка не даст соврать, — отбояривалась Параскева.
— Ну, то даве, а то сейчас… Вода дырку завсегда найдет — наступала Матрена, но так и не уговорила Параскеву, потому что та побаивалась за своего Степушку. Был он на самом заводе, а если еще за чай сесть, то время затянется и будет сын совсем хорош, а тогда и домой до кровати не дотянуть его.
Параскева встала, оправила платье, поклонилась в пояс.
— Спасибо, хозяюшки, за хлеб-соль.
Подошла в угол к больной, на ухо громко сказала:
— Баба, до свиданья.
Больная слабо протянула сухую маленькую ладошку, погладила по коричневому рукаву, узнала Параскеву, но сказать что-то уже не хватило разума. А Матрена, оглядывая Параскеву, вдруг сказала:
— Ты, Параскева Осиповна, и не стареешь, будто годы тебя стороной обходят.
— А чего стареть-то? Вина я не пью, не табашница, мясного не ем; живу во спокое дорогом, пензия от государства идет. Я только жить по-настоящему начинаю, — сказала Параскева, поманила пальцем Степушку, и что-то властное было в этот миг в ее большой белой голове. — Ну, хватит, сынок. Всего вина не перепьешь, всех девок не перецалуешь, пора когда лени конец знать. У тебя и дом есть.
— Ну, что ты, Паранюшка, сына из-за стола гонишь, — нарочно возмутились хозяева. — Тут ли ему не дом. В отпуске он, пусть погуляет во свободу. А то в городе на производстве все по дисциплине, утром не поспишь и с работы раньше не уйдешь.
— Сынок, долго ле тебя еще ждать? — повторила Параскева и, когда Степушка, сыто пошатываясь, вышел на травянистый заулок, сказала ему сердито, оглянувшись на желтые окна с веселыми тенями: — Вот уж за што людей не уважаю… Не знают они меры. — Помолчала, прислушалась к деревенскому гомону. — И это посреди страды такое гулеванье.
Степушке отвечать было лениво. Правильно угадала сердцем Параскева — научился сын пить. Эта пара стакашков ему, как волку дробина, а раз не допил Степушка, не ублажил окончательно душу хотя бы до песенного состояния, то было ему сейчас ужасно тоскливо.
Он шел срединой водянистой дороги, разбрызгивая модельными туфлями жидкую грязь, а мыслями был в Архангельске, на улице Попова: там на пятом этаже Милкино окно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу