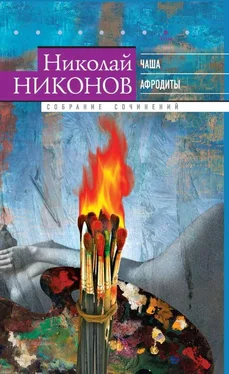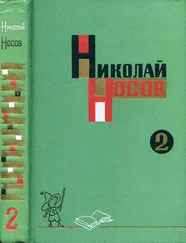— Нет. Меня и не примут никогда.
— Почему?
— Да я отсидел десятку..
— Да, тут у вас в документах указано. И не реабилитирован?
— Нет. Антисоветская агитация.
Салангина бледно усмехнулась.
— Не знаю, что и посоветовать вам. И помочь хочется. Я вас понимаю. Как со здоровьем у вас? Вы не туберкулезник? На учете не состоите в диспансере?
— Нет. Нервы вот подводят. Но в психушке не был. (Один год я, правда, мотался по невропатологам. Лагерь не забывался.)
— Можете справку принести, что вы у них на учете?
— Не знаю!
— Идите и несите такую справку, — сказала она без апелляций, — Идите!
Уже направляясь в сторону поликлиники, я вспомнил, что когда становился на военный учет, невропатолог — добрая дряхлая старушка — долго щупала меня, раздела догола, колола иголками, стукала своим холодным молотком, и в конце концов я получил определение: «Негоден в мирное время, ограниченно годен в военное». И вот диво — справку дали, и я принес ее Салангиной.
— Ну, вот! — улыбаясь, сказала она. — Теперь будет легче. Только однокомнатных сейчас нет. И придется вам, Саша, подождать. Или как? Может, комнату все-таки возьмете? Я вам хорошую дам, с лоджией.
— Нет, — твердо сказал я. — Буду ждать журавля. Синицу не возьму.
— Ладно, будет вам журавль! — пообещала она.
И Салангина сдержала свое слово. Через три месяца, когда барак уже начали ломать, я снова стоял в ее комнате.
— Что я говорила? — улыбнулась она. — Вот, выбирайте. Вы — первый. Дом еще не распределялся. Любую однокомнатную. В торцах все такие!
— Любую?
— Какую хотите. Одинаковые же. Хотите — третий, хотите — четвертый!
— Нет. Мне бы самый верх. Двенадцатый.
— Двенад-ца-тый??
— Да. Я же художник. А художникам лучше на чердаке.
— На двенадцатом насидитесь без воды… Может течь крыша!
— Нет. Только двенадцатый..
— Тогда… Пожалуйста… Странные вы… Художники. Странные…
Я получил ордер.
И теперь объясню, почему мне повезло. Моя квартира была над крышами всех девятиэтажек! Из комнаты и кухни я видел лес, дали и даже серую гладь пригородного озера. Передо мной не было теперь не только ненавистного забора — не было вообще ничего: только небо, солнце, закаты, рассветы, звезды и луна. Что еще можно художнику желать?
Стоя у окна, глядя на крыши внизу, на то, как по ним перелетают голуби и бродят кошки, в пустой и просторной, от этого кажущейся гулкой новой квартире с поскрипывающим желтым паркетом под ногами, я думал: «Неужели судьба повернулась ко мне? Неужели кончился еще один какой-то период и начнется улучшение моей жизни? Как бы готовясь к нему, я скопил каторжным трудом на заводе, в сталеплавильном цехе, четыре тысячи рублей. В этот сталеплавильный, мартеновский меня загнала окончательная нужда, и наткнулся я на работу подручного совсем случайно, шел с пляжа и увидел объявление: «Требуются в сталеплавильный». Зарплата. Она показалась удивительно большой.
Завод я не любил никогда. И не мог бы полюбить, как нельзя полюбить лагерь, каторгу, ссылку, еще что-то такое же. Я его просто терпел, потому что он помог мне выбраться из нужды. Да, пожалуй, не я один — все терпели там, вкалывали с привычной безнадежностью, с чем-то еще более горьким.
Мы все тут были рабами машины, рабами техники, огня, металла, того, чем не адского, процесса плавки, бесконечной, неостановимой и порой, казалось, бессмысленной. В самом деле? Куда шел этот металл, синими тяжелыми поленницами сложенный на литейном дворе возле подъездных путей? Отсюда — его грузили в вагоны, увозили, чтоб сделать станки, машины, трубы, кровати, и теми же путями (но с другой стороны!) он возвращался обратно ржавыми, ломаными остовами тех же станков, машин, труб, кроватей — шихтой, которую опять надлежало закладывать в клокочущие, как мыльной водой, адские топки печей.
Будь я хоть сколько-нибудь жаден до модернизма, уж обязательно написал бы этот цех — подобие преисподней с красными дьяволами в заревах печей, и самые печи — котлы, кипящие будто смолой и серой, и наши лица в дурацких касках, поверх шапок зимой, особенно после смен, высосанные жаром и на пределе всех человеческих сил. Деньги здесь зря не платили. А я был третьим подручным, говоря проще, подметалом: подгребал шихту, был на подаче, таскал пробы… Одним словом, «художник», и тут меня так звали, как в лагере, только тут с насмешкой.
«Художником» я назвался явно сдуру, когда поступил в цех.
— Кем был-то? — спросил меня мастер, черный, копченый мужичонка.
Читать дальше