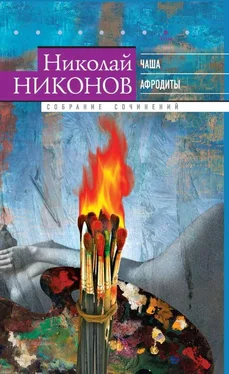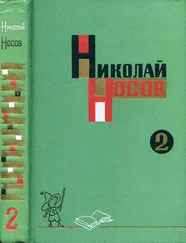— Природа сама родит свои зеркала. И эти зеркала высшего порядка — художники. Одним она дает отразить свою чувственность и красоту в пейзаже, другим в изображении животных, третьим — в изображении человека и особенно женщины, женщины, женщины! Таких крайние единицы, и знает их весь мир, хотя женщину писали едва ли не все художники. Однако не всем она далась. Запомните, Женщина опасна! (Опять кривые ухмылочки наших художниц.) — Да Болотников даже не смотрит на них, для него художницы, видимо, не женщины. — Женщина заколдовала многих, многих и многих! Многих она просто утопила в своем лоне, поглотила, свела с ума, заставила потерять талант и даже просто лопнуть от страдания и внутреннего перенапряжения. Так показал это Золя в своем «Творчестве». Одни погибли в момент наивысшего сладострастия, других она погубила потворством, третьих— красотой, четвертых — ядом и пороками, и только немногие, обделенные ею, всю жизнь страдавшие от голода и несбывшихся желаний, отразили ее сущность на холстах, хоть так пытаясь удовлетворить гложущее душу и тело чувство несбывшегося.
И опять это были те самые имена! Итак, пишите женщину и — бойтесь ее, как бездны. Ваши потери будут адекватны вашему чувству!
Трезвонил звонок. И Болотников, подняв свою голову триумфатора, где так и чудились, наверное, и ему самому листья античного венка, выходил из мастерской ни на кого не глядя, и мы кто молчали, кто ухмылялся, кто ядовито покручивал пальцем у виска. А кто-то из трутней, презрительно кривясь, щурился, как следователь, на тощую спину вещателя, спину в бархатном пиджачке, — брал на прицел.
Совсем не так преподавал живопись Павел Петрович. Являлся в мастерскую в опрятном — прямые плечики — подростковом костюмчике, стоял, молча глядя на всех и каждого впалыми, въедливыми, горящими глазами (хорек? кошка? неясыть? вампир?), потом шествовал мимо мольбертов, останавливался у каждого, помолчав, частил:
— Ыт што у тебе такое? Што такое? Пыдмалевка? Тык пыдмалевка дылжна прыкладываться широко, общими тынами. А ты што тут нычастил? — Павел Петрович везде вместо «a-о» говорил «ы». — Эт тибе ситец, штоль, ныбив-ной? Этже ЫТЮ-УД! ЫТЮД! Ытюд пишется, штоб общее впичатленье схватить. Мгновенье остановить. Аты што делаешь? Ытюд — запомни, продолжение нашлепка — и все!
Шел дальше, опять слышалось:
— Задник у тебя куда лезет? Задний план надыть легко, в протирку. А ты намесил, нарубил этый пастозности. Кто ты? Ван Гог? Эт, друг, мазня называется. Потом она почернеет — сажа будет. А не ытюд.
Еще дальше:
— Эт вы мне бросьте: гинеальное сразу лепить! Гине-альное без знаний никому не давалось. И гениям. А мы не гении… Мы мастеровые. (Вот уж правда! — зло думал я.) Мыстерство, между прочим, выше этый вашей гинеальности. Выснецов, Шишкин, Саврасов, Репин — мыстеровые были! А вы мне Коровина этого, Мылявина суете… Ах, красно! Ах, краска! Да краску в ытюде биречь надо. Цветом в живописи ничего не возьмешь. Надо правильные отношения строго выдерживать, а не мазать из тюбика! Ин-прессионисты!
Молчание, но недолгое:
— Тут што у тебе? Эт «мыло» называется. Мы-ло! Размы-лил все. Цвет потерялся. Мылом картины мазать невелика честь. Ты живопись подавай. А мыло у Кустодиева пысмо-три. Там у него Винера есть такая. В бане. Ну, невелика выдумка. Баба и баба… Без натуры писал. У Ренуара, видать, содрал… А мыла там кусок здорыво… Написано мыло… А ты мылом-то пишешь!
Обойдя мольберты, повторял:
— В живописи порядок нужен. Пырядок! Апрятность вы всем. К апрятности привыкать надо. Палитра чтоб чистая была. Штыб на ней красочки одна к одной. Взглянуть любо! Инпрессионизьмом этим штыб не пахло. Инпрессионисты ваши все неучи были, мазилы — неумехи. Ни школы… Ничего. Тарелку толком рисовать не могли. Линию без трясучки провести. А лезли, чтыб о них в газетах только кричали. Аблают их в газетах — они рады. Ызвестность! Ылкаголики были, сифилитики рыспущенные. Гаген этыт… Латрек… В публичным доме жил. Проституток писал! А художник-то свитой должен быть. Сви-то-о-ой!
И Болотников нас учил, что художник должен быть святой, молиться, поститься перед картиной как перед искусом. Но, как видно, у него и у Павла Петровича были разные представления о святости живописца. В остальных указаниях учителя наши расходились диаметрально.
— Да развязывать! Развязывать себя надо, как мешок! — потрясал кулаками Болотников. — Как мешок! В живописи, в литературе, вообще всюду-везде скованы мы, связаны, замучены, измордованы. Худсоветы! Цензоры! Завотделами! Так путной живописи никогда не создать! Художник должен быть свободен! Бросьте все к чертовой матери, пишите, как Бог на душу кладет. Только так и можно добиться чего-то в искусстве. Где это сказано: «Всякий из нас обладает собственным чувством красок, которое следует в себе развивать самому. Никакие советы (И советская власть!) не помогут сделать художника колористом, если он сам с любовью и настойчивостью не будет изощрять упомянутое чувство краски! Те, кто жили задолго до нашей эры, гораздо глубже греков! Индийцы, например, считали, что для того, чтобы заниматься живописью, — тут Болотников потрясал руками, — надо не только знать каноны-шастры, но сперва быть знатоком танца, музыки, пения! И это так верно! Разве не в жесте выражена в чувственном образе мысль? Идея? А индийцы создавали потрясающие примеры, особенно в пластике. Живопись ведь могла и не сохраниться. Посмотрите на их танцующих упсар! Так изобразить танец ног, живота, грудей, ягодиц могли только великие художники! И — обратите внимание — везде разрушен реалистический момент восприятия. Это сверхреализм, и задолго до Пикассо. Живая женщина никогда не сможет так вывернуться, так одновременно смотреть на зрителя всеми своими прелестями. Это вам не купальщица с веслом!
Читать дальше