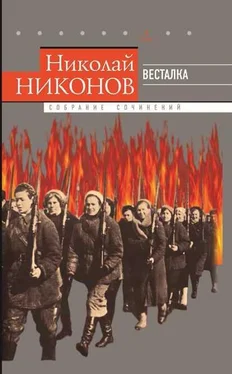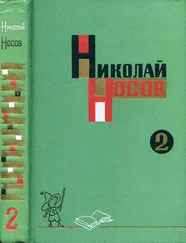— А то немцы вас пощадят? Они бомбят все..
— Это самоуправство!
— Мы не позволим!
В числе орущих на военного и железнодорожника увидела Валю. Она даже наступала на капитана в синей фуражке.
— Если кто сунется мешать сцепке — буду стрелять без предупреждения! — рявкнул он и, хлопнув по нагану, уже не слушая никого, побежал к своим вагонам, привычно придерживая обшарпанную кобуру. Вся военная амуниция: полевая сумка, ремни, фуражка — сидела на нем, была пригнана с вечной, въевшейся сутью, неотделима, бежал капитан, вроде бы небыстро переставляя кривоватые, кавалерийские ноги, однако неутомимо, уверенно, как бегают в погоню с собакой… Поравнявшись со мной и Платоновой, зорко царапнул косым, цепляющим взглядом. Мы тоже разглядели его: лицо некрасиво худое, длинное, подбородок торчит, уши тоже. Помню, почему-то я долго смотрела на эти удаляющиеся уши-сочни под синеверхой фуражкой и думала, до чего нахрапистый, жесткий, должно быть, человек.
Воинский эшелон все-таки прицепили, и, наверное, оттого поезд пошел медленнее. В Кирове сутки простояли на запасных путях. И это было хуже, чем ехать. Приказ: из вагонов ни шагу! Сиди томись, слушай галочий крик. Почему-то здесь были тучи галок и такие же крикливые женщины — обходчицы, не то стрелочницы, все время перекликавшиеся певучими голосами: «Ну, Мань, у тя там чаво?» — «Да в порядке все, ничаво. Марозику б нанясло, а то дажжит..» И хотя торопиться было некуда — впереди незнаемо что, — все извелись от этой долгой стоянки, ныли, ругались. Так уж, наверное, устроен человек, всегда тянет к какой-то определенности, неизвестность томит и пугает. Куда направляют наш госпиталь, никому словно не было ясно, никто ничего не знал. Похоже, и начальство не знало. Сообща решили: под Москву, в крайнем случае к Ленинграду, вдруг там начнется наступление или опять под Москвой. То зимнее, прошлогоднее, которое мы с матерью, да и все, наверное, кто был в тылу, приняли за полный разгром немцев, за скорый конец войны, как-то непонятно, незаметно остановилось к марту. Война будто притихла, а к лету снова запылала, как раздутая ветром, и в сводках было: Сталинград, Сталинград, Кавказ, «ожесточенные бои на Сталинградском направлении» сменялись «боями в районе Сталинграда». Сейчас я даже не понимаю, почему мы все решили: едем под Москву. Может быть, нас специально дезориентировали. Выходить на остановках без приказа запрещалось, и первый еще день пути все мы мучились — в вагоне не было никакой уборной. Сами недодумались. Все скрывали нужду друг от друга, пока кто-то, кажется Лобаева, не простонала:
— Ой, девки, живот счас лопнет. Больше не могу!
Выяснилось, «не могут» все. Посоветовавшись, определили угол, поставили ведро, кое-как отгородили простыней, потому что делать это на глазах у всех большинство просто не могло. Договорились только содержимое ведра сразу выплескивать в открытую дверь — иного выхода не было, правда, кто-то предложил пропилить пол. Это было бы, пожалуй, самое лучшее — да где взять пилу? В дороге выяснилось: не предусмотрели самого необходимого, например, ни у кого не оказалось ножа, не взяли спичек — спички тогда были проблемой, были самоделки из фанерных щепочек или огонь добывали кресалом из кварцевого камня, если бы еще фонарь, хоть крошечный огарок свечи, — ничего не было, как не было, например, воды, — один чайник на всех. Вера Федоровна, старшая над нами, оказалась удивительно не способный ни к какому командованию и руководству, раскисла больше всех, все ныла, вспоминала о дочке: как она, что… Вместо нее — само так получилось — распоряжаться стала Лобаева, все-таки единственная настоящая военная сестра, хоть мы ее и не любили за постоянную грубую насмешливость, шестимесячную завивку и даже за то, что она одна в вагоне курила папиросы, махорку. В любом сообществе, и в женском тоже, очень быстро образуются какие-то извечные причинно-подчинительные связи, и связи эти, отношения в первый же день пути образовались и у нас.
Вера Федоровна осуществляла, так сказать, официальное руководство, а повседневное и постоянное перешло к Лобаевой и ко мне. Мы с Платоновой отвечали за питание и снаряжение, остальные вроде не у дел, но и не мешали нам.
Ночью, ворочаясь на жестко хрустящей соломе, сквозь которую все равно проступало еще более твердое дерево нар, я укрывалась своей пахучей новой шинелью, пыталась и не могла заснуть. Все было слишком непривычно: темный гулкий ящик-вагон, запах военного быта, соломы, лошадиного навоза и какой-то еще химической дурноты, перестук колес, бивший в ухо, — я подстилала под ухо берет, подкладывала вещевой мешок вместо подушки — все без толку. Вагон качало, трясло неуемной дрожью, точно и он боялся чего-то, и все дрожало, скрипело, бренчало, брякало, тряслось, как тряслись наши тела, все-таки в основном круглые, не высосанные еще войной.
Читать дальше