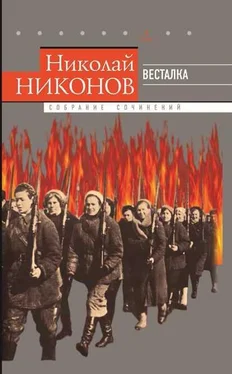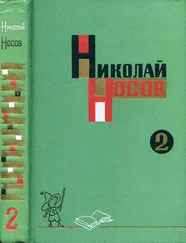Картошку мы уже попробовали, подкопали несколько гнезд сбоку и вырыли с десяток новорожденных картофелин в слабой и нежной шелухе, которая сдиралась, чуть тронь, обнажала промытую в воде и еще более нежную розово-белую плоть. Молодая картошка! Это была и не картошка — грубое слово, — было вкуснейшее чудо, пресно и сладко таявшее во рту. Мы варили ее с укропом и, поев раз-другой, решили, подождем: слишком расточительно подкапывать, жаль кусты, пусть подрастет. Жалко..
А через день я проснулась раным-рано от причитаний. Вскинулась. Первой мыслью, которая обожгла кипятком от пяток до волос: отец? Неужели страшная серая бумажка, где казенно, казенней некуда, сообщалось, что такой-то, ваш отец, муж, брат — там снизу так и было подписано, вроде как выбирай, соответствующее подчеркнуть. Господи, кто придумывал форму, цвет даже этой бумаги! А дальше просто: у б и т, и тогда-то. Эти бумаги я видела. Их писали у нас в канцелярии, крохотной комнатке с единым зарешеченным окном, раньше там жила техничка. В канцелярии трудились две неразговорчивые женщины — младший и старший лейтенанты, обе с мужскими лицами, стрижками и походками. Они казались выходцами из другого, без меры жесткого, холодного мира, где все на замках, в сейфах, в сургучных печатях, которыми они ежедневно, мне казалось, совершенно ни к чему, припечатывали свои двери, а по утрам снимали печать. Бумагу эту мы не хотели даже представить, не ждали, и словно бы все время она все-таки приближалась к нам после того письма сержанта Погодина.
— Папа?? — крикнула я, бросаясь к матери и обнимая ее, полураздетую, стоящую у окна. Но мать только покачала головой и показала в окно.
— Картошка… — устало сказала она, идя к кровати и опускаясь на ее край.
Я увидела серую истоптанную полосу дворовой земли с разбросанной по ней еще зеленой и мятой ботвой.
Картошки не было. Ночью кто-то выкопал-разорил всю нашу полосу.
Кое-как я оделась, торопливо выбежала, будто могла что-то поправить, кого-то нагнать, обошла весь участок. Теперь я тоже плакала. На земле валялись лишь легкие белые горошинки, да такие же были на корнях наспех вырванных, обобранных кустов. С горя я принялась даже поднимать, садить обратно какие-то кучки ботвы, подумала: «Может, отрастут?» Но тут же поняла и глупость, и тщету своей выдумки и, махнув, что-то причитая, пошла домой.
Сколько на Руси святой рубили голов за воровство, за пьяную лень, за разбой? Сколько драли кнутом, батожьем, садили в тюрьмы, отправляли на лесозаготовки — воровство, как парша, не выводилось никогда. Воровали дворяне, чиновники, купцы, мещане, крестьяне, работная голь, что жила по окраинам и слободкам. Воровство входило в суть жизни, считалось доходным делом, удачей, промыслом, чуть ли не смыслом жизни. Так было раньше — учили мы по истории, читали у Горького. Булочники, мещане, «Челкаш», «Городок Окуров».. А вот в нашей близково-кзальной улице воры жили чуть не через дом: Пашковы, Петуховы, Паршуковы, Двойниковы, Быковы, Сродных, Земляковы — господи, сколько? Как это до сих пор не приходило мне в голову? С ребятами из этих семей и дворов я училась в школе, и в школе они уже крали ручки, пеналы, резинки, галоши, шарили по карманам в раздевалке, подрастая, воровали по кладовым, дровяникам.
Становились старше, получали специализацию, были в околотке нашем карманники, домушники, вроде Плешковых и Скрыгиных; Земляковы вообще ничего не боялись, раздевали прохожих. И теперь думаю-вспоминаю: что заставляло этих ребят воровать? Нужда? Ну, допустим, голод. А до войны-то что? До войны продуктов было — завались, и жили, кто работал, не худо. Что тогда? А шли словно торной дорогой, от пятаков на вешалке к разбою, к временным исчезновениям с наших улиц, а там и вовсе из памяти живых. На смену исчезнувшим подрастали новые и той же чередой к первому и последнему сроку. Кто поймет, объяснит? Да по совести, без всяких там… Объяснит кто?
Теперь вот их не останавливала и война.
Я размазывала злые слезы бессилия. Хотела сама искать следы жуликов. Говорила: «Надо заявить в милицию». А мать не пустила никуда. Была она удивительна во всепрощении, в своей блаженной, вселенской доброте. Проплакалась и твердо сказала: «Брось. Забудь. Как-нибудь переживем». В военкомате на запрос нам сообщили, что отец «пропал без вести». Это значило, что нам не положены ни аттестат, ни пособие, как семье погибшего. А мы радовались даже и такому объяснению. Все-таки отец словно бы оставался жив. Не обрывалась надежда. Он был жив в нашей памяти и в этой безвестности, и это было, пожалуй, самое главное, чего мы хотели и ждали.
Читать дальше