— Ну как?
— Пустовато.
— В смысле?
— Сплошное пустословие.
Я страшно обиделась, но все равно послала статью. Ее не напечатали. С того момента газеты — и местная, и общенациональная — стали отвергать мои тексты, отговариваясь нехваткой полос. Я страдала, понимая, что все вокруг рушится словно под действием неистовых подземных толчков — все, что я привыкла считать незыблемыми условиями жизни и работы, внезапно зашаталось. Я читала, но чтение теперь сводилось к простому узнаванию букв, складывающихся в слова, — смысл написанного от меня ускользал. Пару-тройку раз я натыкалась на статьи Нино, но даже от них не получала прежнего удовольствия: я не представляла себе его, не слышала его голоса, не радовалась его свежим идеям. Конечно, я была за него рада: раз он пишет, значит, у него все хорошо, он живет своей жизнью — неизвестно где и неизвестно с кем. Я всматривалась в его имя, прочитывала несколько строк и откладывала статью в сторону: каждое предложение, набранное черным по белому, делало мое положение еще более невыносимым. Меня ничто не интересовало; я совсем не заботилась о том, как выгляжу. Да и ради кого мне было прихорашиваться? Я ни с кем не виделась, кроме Пьетро, который, конечно, вел себя со мной корректно, но считал меня всего лишь своей бледной тенью. Иногда я пыталась поставить себя на его место, взглянуть на себя его глазами, и то, что я видела, мне не нравилось. Брак со мной только осложнил ему жизнь, мешал заниматься, и это при том, что его известность росла, особенно в Великобритании и США. Конечно, я гордилась им, но он меня все больше раздражал. В разговорах с ним я все чаще брала униженно-злобный тон.
Потом настал день, когда я сказала себе: все, хватит. Прощай, «Унита». Надо садиться за роман. Как только я напишу хорошую книгу, все образуется! Но о чем писать? Свекрови и издательству я пела, что работа идет полным ходом, но я бессовестно лгала. На самом деле у меня не было ничего, кроме тетрадей, заполненных разрозненными заметками. Стоило мне их открыть — днем или ночью, когда Деде позволяла, — я сама не замечала, как засыпала. Как-то раз вечером, вернувшись из университета, Пьетро застал меня после такой попытки поработать: я повела себя еще хуже, чем он, когда я просила его немножко посидеть с дочкой. Я спала на кухне, уронив голову на стол, а малышка, потерявшая пустышку, надрывалась криком в спальне. Отец обнаружил ее полуголой, забытой родной матерью. Когда Деде жадно принялась сосать из бутылочки, расстроенный Пьетро спросил:
— Может, позвать кого-нибудь тебе на помощь?
— В этом городе у меня нет никого, ты же знаешь.
— Попроси приехать мать или сестру.
— Не хочу.
— Тогда позови ту свою подругу из Неаполя. Ты же ей помогала, теперь пусть она тебе поможет.
Меня аж передернуло. На какую-то долю секунды мне представилось, будто Лила уже здесь, в этом доме, и, как когда-то она завладела мной, теперь вселится в Деде, вместе со своими прищуренными глазками и наморщенным лбом. Я уверенно замотала головой. Ни за что на свете!
Пришлось Пьетро звонить своей матери: ему страшно не хотелось, но он попросил ее приехать и пожить немного у нас.
Я полностью доверилась свекрови, и она меня не подвела: и на этот раз она все наладила, и мне оставалось только восторгаться ею и мечтать когда-нибудь стать такой, как она. Уже через пару дней она нашла Клелию, девушку лет двадцати родом из Мареммы, и выдала ей четкие инструкции по уборке дома, походам по магазинам и приготовлению еды. Обнаружив Клелию, Пьетро рассердился — с ним даже не посоветовались.
— Мне рабы в доме не нужны, — заявил он.
— Какая же это рабыня? — спокойно возразила Аделе. — Это просто ее работа. Мы будем ей платить.
Я так осмелела в присутствии свекрови, что добавила от себя:
— А что, по-твоему, рабыней должна быть я?
— Ты мать, а не рабыня.
— Я обстирываю тебя, глажу твои вещи, убираюсь, готовлю. Я родила тебе дочь и теперь одна занимаюсь ею. Я вымоталась.
— А кто тебя заставляет? Я никогда ни о чем тебя не прошу.
Я была готова взорваться, но вмешалась Аделе: она обрушила на сына целый поток саркастических насмешек, и Клелия осталась. После этого Аделе забрала у меня девочку, переставила ее кроватку в свою комнату и взяла на себя заботу о бутылочках. Заметив, что я хромаю, она отвела меня к знакомому врачу, который назначил мне курс уколов. Каждое утро и каждый вечер она приходила ко мне со стерилизатором, шприцами и ампулами и бестрепетной рукой колола меня в ягодицы. Мне сразу полегчало, боль прошла, настроение улучшилось, и я наконец воспрянула духом. Но Аделе не прекращала обо мне заботиться. Она убедила меня заняться собой, отправила к парикмахеру, сводила к дантисту. Но главное — она постоянно вела со мной разговоры о театре и кино, о книге, которую переводила, о другой книге, которую редактировала, о том, что ее муж или кто-то еще из известных людей — она знала их и дружески называла по именам — написали для того или иного журнала. От нее я впервые услышала о феминистках и брошюрах, которые они издавали. Мариароза была знакома с их авторами и искренне восхищалась ими — в отличие от Аделе: та с привычной иронией говорила, что они мелют чушь, пытаясь отделить женский вопрос от классовой борьбы. «Но ты все равно почитай, — посоветовала она, протянув мне пару книжек и добавив загадочно: — Если собираешься быть писательницей, ничего не упускай». Я отложила книжонки в сторону: не хотела тратить время на тексты, которые сама Аделе считала неудачными. Но именно тогда я поняла: свекровь говорит со мной не потому, что ей действительно интересно мое мнение. Она пыталась разрушить сложившийся у меня в голове стереотип плохой матери. Она сыпала передо мной словами, надеясь, что, приходя в соприкосновение, они высекут искру, от которой в моих потухших глазах вновь загорится огонь. Она пришла не для того, чтобы выслушать меня, а для того, чтобы меня спасти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Элена Ферранте - История о пропавшем ребенке [litres]](/books/32091/elena-ferrante-istoriya-o-propavshem-rebenke-litres-thumb.webp)

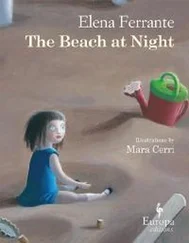



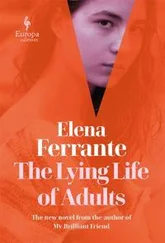
![Элена Ферранте - Дни одиночества [litres]](/books/404671/elena-ferrante-dni-odinochestva-litres-thumb.webp)



