В таком вот веселом, даже приподнятом настроении отправились мы на утреннюю линейку, ожидая, что и здесь позабавимся. Линейка проводилась на танцплощадке. Как обычно, мы выстроились по кругу, все еще возбужденно переговариваясь. И вдруг разговоры смолкли. В центре площадки стояли, оказывается, эти двое – Лилька и Серега. И это уже было совсем не смешно. Они стояли мрачные, осунувшиеся, побледневшие. Какие-то… Ну, словом, как привязанные к позорному столбу, как приговоренные к казни. Думаю, что не только я, а все ребята почувствовали это. Потому-то и наступила тишина.
Да, мы как-то не ожидали, что их выставят вот так на позор, перед всем лагерем. В этом было что-то отвратительное, гораздо более непристойное, чем то, что эта легкомысленная парочка сделала ночью. Но руководители лагеря так не считали. В центр круга вышел один из преподавателей – и «позорная казнь» началась…
* * *
Мы росли в то время, когда надзор за «моральным обликом», процедура коллективного обсуждения и осуждения считались нормой человеческих отношений. Главным средством воспитания. На фабричных собраниях то и дело «песочили» алкоголиков и тунеядцев. Все понимали, что словами алкоголика не прошибешь, не перевоспитаешь, что это неимоверно трудное дело, требующее повседневного душевного участия, а не казённых слов. «Прорабатывая» на собраниях мужа, изменившего жене, или жену, изменившую мужу, все понимали, что после этого собрания, где их позорили и поливали грязью, они не раскаются, не станут по-иному относиться друг к другу, а скорее всего научатся лучше маскироваться. Либо они вовсе разойдутся…
Все это понимали, но продолжали участвовать в комедии «проработок». Потому что был установлен такой порядок. А скрывалось за ним вот что: неважно, как на самом деле, важно, чтобы снаружи все выглядело хорошо. Заодно демонстрировался и принцип коллективизма: мол, советский коллектив – могучий воспитатель.
С раннего детства я сыт был этим принципом «по горло, до подбородка», как пел Высоцкий. Сколько собраний, общешкольных и классных, сколько пионерских сборов было посвящено «коллективному перевоспитанию!» То Гервальда стыдили за плохое поведение, то Опарина – за прогулы, то еще кого-нибудь – за двойки… Самое печальное, что это действительно превращалось в уроки. Обвиняемые учились каяться и хитрить, обвинители учились ханжеству, учились произносить красивые и лживые слова, которые могут понадобиться в будущем для карьеры.
То, что происходило сейчас, тоже было вариантом «проработки», но таким, который не требовал нашего участия. Преподаватель, окидывая суровыми взорами «подсудимых» да и всех нас, произнес гневную речь. Он сообщил, что этот аморальный поступок будет очень строго наказан. О нем немедленно доложат ректору. Он заклеймил возмутительное поведение девочек из Лилькиной палатки, допустивших это позорное, безнравственное происшествие. Он корил всех нас за безразличие к лагерным устоям, что и привело якобы к сегодняшнему безобразию… Он говорил и говорил, а мы, переминаясь с ноги на ногу, думали: уж поскорее бы ты заткнулся! Что же нам всем теперь кастратами стать, что ли? К тому же мучительно было смотреть на Серегу и Лильку, которых, вероятно, ожидало кое-что похуже изгнания из лагеря. Но как помочь им?
* * *
Об этом мы и говорили, собравшись после обеда довольно большой группой в долинке под сенью дуба. В совещании участвовал и сам «виновник торжества».
– Вы что же, в горы не могли уйти?
Валерка Круглов сидит, опершись спиной о могучий ствол дерева. В руках у него сигарета. Когда Валера волнуется, нервничает, он непременно курит. И затягивается посильнее. При этом его густые усы как бы подталкивают курносый нос, который задирается еще выше. Обычно это меня смешит, но сейчас не до смеха. Вон и у Валеры пальцы с сигаретой подрагивают. Валере уже двадцать пять, он опытнее всех нас и, вероятно, лучше, чем мы, понимает, как из-за ерунды, из-за одного случайного поступка может сломаться жизнь молодого, неопытного человека. К тому же он – спортсмен, а для спортсменов взаимная выручка – это не слова, это закон жизни.
Савельев – он тоже сидит под дубом и палочкой ковыряет землю – в ответ мрачно пожимает плечами. Да и что тут ответишь в самом-то деле, – думаю я. Небось, лихость свою захотелось ему показать, захотелось покрасоваться перед Лилькой. Я, мол, крутой, все могу, никого не боюсь!
– Ему хотелось, где помягче, – хихикнул кто-то.
Читать дальше

![https://ficbook.net - Долгая дорога забвения. Часть 1 [СИ]](/books/34030/https-ficbook-net-dolgaya-doroga-zabveniya-chast-thumb.webp)
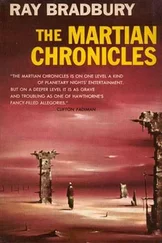

![Филип Фармер - Долгая тропа войны [= Долгая дорога войны, Тайник из космоса]](/books/317629/filip-farmer-dolgaya-tropa-vojny-dolgaya-doroga-v-thumb.webp)
![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/340873/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo-thumb.webp)

![Валерий Софроний - Эффект пешки. Книга 1. Долгая дорога домой [СИ]](/books/432135/valerij-sofronij-effekt-peshki-kniga-1-dolgaya-dor-thumb.webp)




