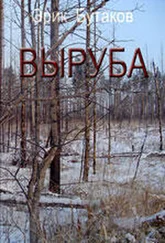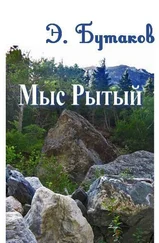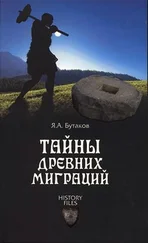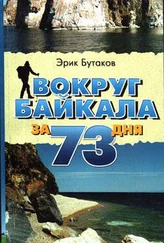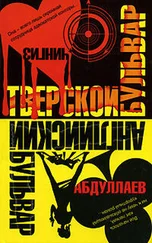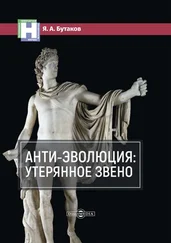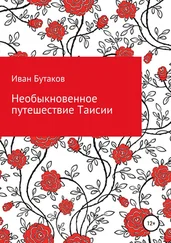Про то, что местные жители на Кирпичке разживались строительным материалом для постройки своих гаражей, я говорить долго не буду — и так понятно, что «бракованной» и «неликвидной» продукции было много, и она просто списывалась и выбрасывалась. К тому же, мы сами местные жители. Надо же было солдатикам стройбата на что-то жить.
Родники здесь появились не так давно — после того, как Ангару перекрыли плотиной. Раньше они, скорее всего, были под водой, потому что уровень воды был значительно выше, чем сейчас. Но почему и откуда они бьют — никто не знает. Более того, один из них был сероводородным. В него даже была вбита кем-то, когда-то толстая железная труба, которая со временем проржавела и покрылась жёлто-зеленым налетом сероводорода. Воняло от этого родника тухлыми яйцами, и летом он густо зарастал щавелем и ещё какой-то высокой травой, потому что к нему никто не подходил из-за вони и желтой воды. Однако надо полагать, что вода там имела лечебную ценность. Но кому это надо при социализме — Аршана мало, что ли? Зато другие ручьи были чистыми, прозрачными, холодными и вкусными. К ним были пробиты надежные тропы, которые заканчивались вытоптанными полянками с признаками костра, грудой пустых бутылок и склянок, предметами женской капроновой одежды, обломками деревянных изделий, камнями, чтобы на них сидеть, и ещё всякой гниющей дрянью, вроде обкусанных огурцов, корок хлеба и рыбных костей. На дне этих ручьев лежали искореженные обломки и листы голубого металла — жестяные детали автомобилей, колесные диски, консервные, ржавые банки, битое бутылочное стекло, занесенное илом и рыжим песком. Гольяны, тем не менее, плодились здесь, несмотря ни на что. Каждую весну, во время нереста, когда гольяны лопаются от икры, пацаны кололи их вилками или ловили голыми руками, вытаскивая из-под камней, железных обломков, и из нор под довольно крутыми берегами. Летом в небольших озерцах, которые, естественно здесь тоже образовывались в складках местности, частенько можно было спугнуть табунок уток или увидеть плывущую по своим делам ондатру. Чибисы гнездились в траве. Кулики, свистя, срывались из-под ног. Бекасы встречались часто. Гуси однажды приземлились.
Мы на Родниках когда-то натаскивали спаниеля. Он явно одуревал от запахов дичи, крутя своим хвостом, как пропеллером, вывозившись в грязи до такой степени, что приходилось его отстирывать в реке.
Зимой в парящей, незамерзающей воде родников бултыхались оляпки, зеленели водоросли, вороны объедали трупы собак, с которых шкура была снята на унты.
Жаль, что Родники засыпали. Сколько здесь было майских жуков, ручейника — радость рыболовов, комаров — радость ласточек и стрижей, щавеля — радость рачительных домохозяек. Они, родники, конечно, пробивают себе дорогу из-под земли. Но сейчас это уже слабое подобие того, что было. Ондатры ещё кое-как встречаются летом, может быть, пара гольянов заплывает на нерест, одинокие широколобки, дрожа всем телом, зарываются в ил, и, не улетевшие на Юг по каким-то причинам, утки холодными зимами кормятся вечнозеленой подводной травой. Однако, это всё уже осколки былого величия Родников.
(он же — Прокажёнка)
Когда я учился в медицинском институте, преподаватель анатомии, известный на всю страну своими научными исследованиями и учебниками, рассказал нам историю. Ещё в его молодые годы (до войны) он с другом заблудился в Казахской степи. Приближался буран и ночь. Выбора не было — только удача могла спасти их. И они решили скакать на своих коротконогих конях, куда глаза глядят — авось, кривая вывезет. И поскакали. Глубокой ночью, в ветер, им повезло — наткнулись на какой-то тускло освещенный поселок. Здесь было, где укрыться от непогоды, напоить и накормить коней и переждать ночь. Им дали кров, еду, но сами люди, принося всё это, почему-то уходили, не оставаясь с ними. Они не могла понять, почему. Законы гостеприимства нарушались, и их это настораживало. Они ждали самого худшего, до утра не сомкнув глаз. Утром, когда ветер утих, они вышли из юрты и обнаружили, что это посёлок прокаженных. Стало ясно, почему люди не подходили к ним. Инкубационный период лепры длится тридцать лет. Он потом все тридцать лет ждал, что, не дай Бог, на его теле всплывет гусиная лапка.
Из его рассказа очевидно, что прокаженных селили в местах, труднодоступных для других — здоровых людей. Тогда вопрос: как получилось, что лепрозорий оказался на территории областного центра? Ответ, наверное, таков: то место, где находился лепрозорий, когда-то было очень малодоступным, скорее всего, далеко за городом.
Читать дальше