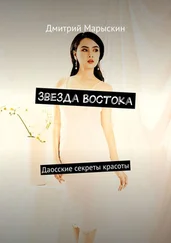Сашке все одно в Москву возвращаться днями. Да батя, видать, торопит. Скоро собрал чемоданчик. Обнял мать, которая в растерянности от нежданных этих вестей и событий так и стояла в фартуке, держа в руке половник, с которого стекало на пол малиновое варенье. И с утренним же автобусом – в Свердловск. А оттуда самолетом – в столицу.
Заговорщиков накрыл тем же вечером по указанному Люськой адресу.
Дверь в берлогу оказалась открытой. То ли ждали новых гостей, то ли за прежними не затворили.
Витька Харитонов и Миша Снегирев керосинили, по всей видимости, уже несколько дней. В неприбранной холостяцкой берлоге, где кроме чешской стенки, возвышался только большой японский телевизор «Дживиси», что вещал вполне себе советские нудные новости про очередную битву за урожай, да такой же громоздкий и такой же японский магнитофон с двумя деками, исполнявший музыку американскую, записанную подпольно барыгами. Купил все это богатство Мишка за чеки, заработанные на войне. За кровь друзей и врагов. Сожженные кишлаки. За «брюшнячок», с которым провалялся почти месяц в Баграме. За надорванное инфарктом сердце матери. За раннюю проседь отца. В берлоге – дым столбом. Чреда порожних бутылок из-под «Жигулевского» в прихожей. В кухне, где, собственно, и разрабатывался план взятия Генерального штаба – штабеля немытой посуды, пригоревшие сковороды, кастрюля картошки в мундире, объеденный остов гуся, початая тара из-под кефира, водки и болгарского коньяка «Плиска».
Сами заговорщики пребывали в том тяжелом физиологическом состоянии, когда после сорока восьми часов воспоминаний о прежних боевых подвигах, поминальных рюмок, рваных на грудях рубахах, памятной солдатскому сердцу «кукушки» и пьяных слез пришло время толковать о политике и людях, в ней обитающих. Несли по кочкам до хрипоты в горле и партию коммунистов во главе с ее генеральным секретарем чекистом Андроповым, и воинских командиров, конечно, начиная с командующего 40-й армией и до самого министра в маршальском чине.
Пьяные кухонные дебаты той поры казались часто глотком свободы, явлением неведомой и чуждой русскому самосознанию демократии, о которой человек наш где-то слышал и даже, может, примерял на себя, да только как обращаться с ней, не ведал, а все его непривычное к порядку и дисциплине нутро невольно ускользало из-под демократического спуда легким ветерком, ручьем весенним. Сражались мужики в кухонных баталиях смертным боем. То и дело срываясь на ор. Сатанея. Временами и за грудки хватаясь, когда последние аргументы исчерпаны. Голубые клубы сигаретного дыма, изысканный родимый мат, какого по трезвому-то делу даже не сочинишь, кислый запах перегорелой в желудках водки полнили берлогу таким ядовитым духом, что чахлый и без того кустик герани, стоявший в жестяной банке из-под болгарских огурцов на подоконнике, окончательно сдох, роняя на линолеум кровавые капли последних своих лепестков.
Появившегося перед ними в парадном мундире полковничьего сына не сразу и признали. Смотрели мутными взорами. Взгляд то и дело сползал куда-то. Ускользал. Пришлось Сашке представиться. Как учили еще в училище обращаться к старшим по званию. Пусть даже и смертельно пьяным. Для почтения пущего козырнул. Снегирь с Витькой тяжелыми, как свинцовые болванки, ладонями недружно козырнули в ответ.
– Саись, каптан, – промямлил таким же свинцовым языком Снегирь. – Вотки буш?
Выпили. Закусили венгерскими маринованными огурцами. Прямо из банки. Купая поочередно пальцы в сладком рассоле. Когда выпили за помин души Сашкиного отца и до летчиков наконец-то дошло, что перед ними не просто полковника сын, но и боевой офицер, потерявший на войне не совесть, а ноги, медалями и даже орденом награжденный, то прониклись к нему, сами того не ожидая, какими-то родственными почти чувствами, норовя быть с ним вроде отца – и ласковее, и щедрее, готовые, если потребуется, собственные жизни за паренька этого героического отдать.
А Сашка и не просил никакой опеки. Жалко стало ему мужиков, на чью долю хоть и выпала война, да только что после войны этой делать – неясно, и кто ты есть после этой бойни, – не понять. Не ветеран, не герой, так, исполнитель интернационального долга. Странная выдалась им война. Спрятанная. Тихая. О ней редко говорили по телевизору. Нечасто вспоминали в газетах, а если и вспоминали, то все больше про водопровод, который провели сердобольные советские воины в какой-то кишлак, про строительство моста через Амударью или про новых студентов политехнического университета в Кабуле. Народу советскому и вправду казалось, что долг свой интернациональный Советская армия исполняет, подобно туристам, вольготно устроившимся на просторах дружественной страны. И только вражьи голоса, доносившиеся к гражданам Страны Советов сквозь глушилки, да похоронки, что сыпались горохом в русские деревни, тюркские кишлаки и аулы, украинские и белорусские села, свидетельствовали об ином. И такие вот, как Сашка, инвалиды, что смущают своим видом счастливый народ счастливой страны.
Читать дальше
![Дмитрий Лиханов Звезда и Крест [litres] обложка книги](/books/437533/dmitrij-lihanov-zvezda-i-krest-litres-cover.webp)



![Гарри Гаррисон - Молот и Крест [litres]](/books/386430/garri-garrison-molot-i-krest-litres-thumb.webp)

![Мередит Рузью - Мертвецы не рассказывают сказки - Самая яркая звезда Севера [litres]](/books/407922/meredit-ruzyu-mertvecy-ne-rasskazyvayut-skazki-sam-thumb.webp)
![Джанет Эдвардс - Звезда Земли [litres]](/books/420293/dzhanet-edvards-zvezda-zemli-litres-thumb.webp)