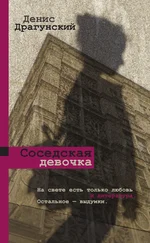Но вот в роли самого себя Якобсен хотел увидеть актера. Искали его не меньше года. Якобсен лично пересмотрел несколько фильмов, проконсультировался с продюсерами и, кажется, подобрал на роль человек пять стариков. Больше всего ему нравился Орсон Уэллс. Однако маэстро Россиньоли настоял на том, что актер должен был молод, ну не совсем, не двадцати пяти лет, но не меньше тридцати шести, а лучше всего сорока — сорока двух.
— Почему? — удивился Якобсен.
— По двум причинам, — объяснил Россиньоли.
Это был жирный итальянец с наглым лицом и жалобными масляными глазами. Якобсен с молодости любил его фильмы. Россиньоли был ненамного его моложе, кстати говоря. Якобсен помнил, как после премьеры одного из фильмов — это была знаменитая «Аллея» — он нарочно отпустил шофера и пешком возвращался из кинотеатра. Шел куда глаза глядят, заплутал, вышел в порт, долго пил пиво в каком-то странном месте и потом часа два окольными путями добирался до дома. Шел, глотая слезы. Он видел фотографии Россиньоли, но ему и в голову не приходило, что этот великий художник — такой шумный и отчасти сальный весельчак.
«Возможно, — подумал мудрый Ханс Якобсен, — все дело в географии». Когда-то он читал, что для скандинавских психиатров итальянцы, особенно уроженцы юга, — это просто клинические психопаты: крикливые, вспыльчивые, громогласные, машущие руками и брызжущие слюной. А для итальянских психиатров самые нормальные жители Скандинавских стран — это люди, страдающие клинической депрессией: молчаливые, робкие, задумчивые, с неподвижными лицами и глазами, устремленными вовнутрь себя. Вспомнив об этом, Якобсен сумел-таки перебороть свою внезапную антипатию к синьору Россиньоли и полностью заместить ее восторгом перед Россиньоли-художником.
— Старик, — говорил Анджело Россиньоли, — это человек с окостеневшим внутренним миром. Он прожил уже слишком долго, у него были свои радости и страдания, свои трагедии и водевили. — Россиньоли говорил красиво, с итальянскими заворотами и экивоками. — Он успел побыть и печальным Пьеро, и веселым Труффальдино, и умником Тартальей. В нем осуществились и Нерон, и Сенека, он уже проиграл эти роли в собственной жизни, и все эти страдания, восторги и слезы слепились в нем в плотную, ничем не разрушаемую мозаику его личности. Поэтому он будет играть самого себя. Но где мы найдем человека, жизнь которого полностью бы соответствовала вашей, господин Якобсен? — вопрошал режиссер. — А даже если и найдем, это будет лишь поверхностная схожесть. Вот первая причина, по которой я хочу взять сравнительно молодого актера. Но не слишком. — Он поднимал палец. — Двадцатипятилетний и даже тридцатилетний актер, хотя ему кажется, что он многое пережил и перечувствовал, на самом деле все-таки еще чистая дощечка. Мы могли бы нарисовать на этой чистой дощечке вашу жизнь, но это потребовало бы слишком много времени и сил и от меня, и от актера. И я побаиваюсь, что капли пота, пролитые этим актером во время освоения роли, будут просачиваться сквозь едва заметные щели в образе, и это непременно увидят зрители. А вот сорок лет — это человек, который уже состоялся и оформился, но еще не завершился. Его жизнь, его мысли, его страдания и чувства — это своего рода подмалевок, на котором мы будем писать образ Ханса Якобсена. Но вам, господин Якобсен, разумеется, потребуется провести с ним немало дней, ответить на его вопросы, да и просто искренне рассказать о себе. Вы готовы?
— Готов. — И Якобсен вроде бы шутя добавил: — Я уже вложил в подготовку фильма несколько миллионов, да и вам заплатил существенный аванс, не бросать же на полдороге.
Россиньоли понимающе улыбнулся и кивнул. Хотя видно было, что эти слова не доставили ему большого удовольствия, тем более что аванс был меньше, чем он предполагал. «Но с другой стороны, — точно так же подумал Россиньоли, — не бросать же на полдороге: аванс-то получен и затея интересная».
— Кто же будет меня играть? — спросил Якобсен.
— Некий Дирк фон Зандов.
— Первый раз слышу.
— Две недели назад, когда мне назвали имя этого актера, я сказал то же самое, — покивал режиссер. — Меня уговорили съездить во Фрайбург, где он играет в местном театре. Я не пожалел.
— Кого же он там играл?
— Ашенбаха, — сказал режиссер. — Они там сделали инсценировку «Смерти в Венеции» Томаса Манна. — И осторожно спросил: — Слышали?
— Прекрасно помню, — брезгливо поморщился Якобсен. — Читал. Омерзительный рассказ. Всегда уважал Томаса Манна как мыслителя и гуманиста. Не думал, что он способен написать такое. Пожилой педераст влюбляется в польского мальчика. Какая гадость!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
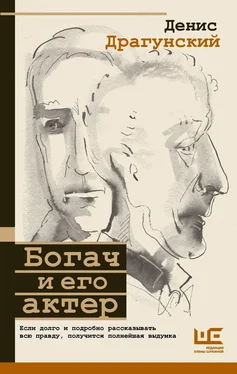









![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)