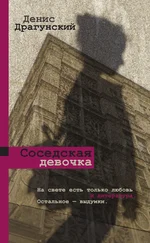Хансу казалось, что он спит и видит кошмарный сон.
Такого не должно было быть. Такого не могло быть. Значит, мама была права: это проклятье семьи, наказание божье. И ведь самое ужасное, что ее не убьешь, не закопаешь в дальнем углу поместья, и не потому, что это опасно, и даже не потому, что Бог не велит, а потому, что он все-таки ее любит. В этом и состоит ужас его жизни. Он любит того, кто убивает его, кто выедает его душу изнутри, как правильно говорила мама.
— Деточка моя, — сказал Ханс, — сестричка моя любимая, я тебя очень люблю, я все для тебя сделаю. Я хочу, чтобы ты снова была веселая, здоровая, счастливая, как была раньше.
Он говорил эти плоские слова, но они почему-то очень растрогали его, и он сам чуть было не заплакал. Даже не «чуть было». Он по-настоящему заплакал, и его слеза, большая и прозрачная, покатилась по носу и упала Сигрид на лоб.
— О, — сказала Сигрид то ли жалобно, то ли зло. — Сбылась моя мечта! Мой брат уронил слезинку на мою бедную головку.
Она громко шмыгнула носом, потом попросила Ханса дать ей сумочку, которую оставила в передней. Ханс, пройдя через целую анфиладу комнат и, пряча глаза от камердинера и горничной, собственноручно взял с широкого мраморного столика под зеркалом эту обтрепанную и, кажется, тоже дурно пахнущую сумочку и принес сестре. Сигрид достала смятый клетчатый носовой платочек, стала громко сморкаться.
Душа у Ханса летала, как на качелях. Вперед — назад.
То ему казалось, что Сигрид по какому-то ужасному капризу злой судьбы действительно стала больной, несчастной, ожиревшей теткой, но при этом — его родной сестричкой, с которой он так славно купался в озере и которая все детство жила в каких-то непристойных, но при этом романтических и очень волновавших его любовных фантазиях. Хотелось обнять ее, хотелось отдать все свои миллиарды на то, чтобы ей наконец стало хорошо, и Ханс плакал от жалости и умиления.
Но потом качели летели в обратную сторону, и ему начинало казаться, что она все это делает нарочно. И эта вонючая вязаная кофта, и толстый сальный нос, и жирные плечи, и позорная сумочка, с которой не всякая нищенка выйдет на улицу, и вот этот демонстративный клетчатый засморканный платочек — это какие-то хирургические инструменты, а точнее говоря, пыточный инвентарь, с помощью которого она холодно, с палаческой беспощадной расчетливостью ковыряется в его сердце все больнее и больнее.
Ханс на самом деле не знал, что делать.
Он переставил свой стул в другой конец комнаты и предложил Сигрид чего-нибудь поесть. Она охотно согласилась. Ханс кликнул камердинера. Ужинов дома они не держали. Ханс, как и все порядочные, следящие за здоровьем люди, не ел после шести, разве что на королевском банкете. Речь шла о том, чтобы заказать ужин в ресторане.
— Заказывайте, мадемуазель, — обратился Ханс к Сигрид.
Дворецкий вытащил блокнот и застыл, занеся над страничкой авторучку.
— Омары в трюфелях, — сказала Сигрид. И тут же захохотала. — Шучу! Два гамбургера, картошка фри и побольше кетчупа. Картошки тоже побольше. И вообще, всего побольше! — неожиданно разозлилась она, глядя на моложавого, подтянутого, как балетный танцовщик, дворецкого. — Видите, какая я! — и без стеснения хлопнула себя по пузу и грудям — все заколыхалось. — Представляете себе, сколько сюда залазит? — Так прямо и сказала — грубым, плебейским словом. — Ну и еще чего-нибудь сладенького, конечно. И кока-колы два бутыли. Кофе не надо. Боюсь, не усну.
«Нет, она все это делает нарочно!» — решил Ханс. Но виду не подал и даже не посмотрел на дворецкого. Просто махнул левой рукой — мол, выполняйте. Не хватало еще ему переглядываться с дворецким. Нет ничего пошлее, чем комплот хозяина и слуги против одного из членов семьи.
* * *
Все-таки хотелось выспросить ее, как она там жила эти годы. Но, уплетая котлеты, Сигрид рассказывала нечто несусветное. «Лучший способ скрыть, — подумал Ханс, — это говорить без умолку».
Вот она и рассказывала о своих переездах из города в город, о замечательных, потрясающих, талантливейших людях, с которыми ей приходилось встречаться, дружить, делить жилье, а с некоторыми и постель. О каких-то поразительных мужчинах, белых, неграх и мексиканцах, об их женах и любовницах и о том, как ее постоянно уговаривали попробовать наркотики, но она, слава богу, не поддалась. Разве что пару раз нюхнула кокаину, но ей ни капельки не понравилось. Болит голова и, извините, понос. «У них кайф, приход и балдеж, а меня тут же прошибает!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
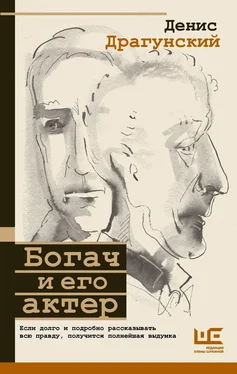









![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)