Дождь кончился, и Джейкоб Глаз почувствовал под языком сладчайший запах йода и солярки, гниющих листьев, анаши, портовой снеди. Он стоял на нижней палубе отеля-поплавка и наблюдал за тем, как на Амстеле мерцают огоньки. Вбирая в легкие дыхание Амстердама, он думал о полете в Балтимор – домой, о завтрашней дороге – и с восторгом воображал американское житье, которое судьба держала крепко в своем глубоком голубом кармане.
1995–2005–2015 Авторизованный перевод с английского Давида Шраера-Петрова и Эмилии Шраер
«Какой нелепый, неосмысленный мир! Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть… А? Зачем? Кто объяснит?»
Юрий Трифонов
Среди гостей за длинным – составленным из двух – столом особенно выделялся мужчина лет сорока восьми. Застолье было в самом разгаре, когда уже изрядно выпито, но еще немало неопустошенных бутылок толпится на столе и на подоконниках. Почти никто уже не ел; разве что самые неспокойные гости и гостьи теребили веточки кинзы, ломтики сырокопченой колбасы, шагреневые куриные ножки, куски восковатого балыка, оплывшие за несколько часов лежания на тарелках. Руки притрагивались к рюмкам и стаканам, подносили к губам и опускались, обессиленные. По обеим сторонам стола некоторые из гостей тщились продолжить беседу, маленький частный разговор, флирт, начатый не без помощи хозяйки еще при рассаживании. Выжав соки из застольных бесед, большинство гостей молчали, кто по привычке убрав голову в плечи, кто развалившись на стуле, кто утопив отяжелевшую голову в пахнущие соленой рыбой и красным вином ладони.
В центре стола под желто-сиреневыми акварелями сидел Павел Лидин. Или Павлик, потому что почти все из гостей были в этом доме не впервые и знали его завсегдатаев. В хлебосольном доме известного московского этнографа профессора Штока Павел Лидин был живой легендой. Некоторые считали его человеком незаурядным, талантливым; другие видели в нем придворного шута, которого приглашали для развлекания гостей. Это была компания интеллигентных москвичей из тех, кто родился еще до войны, в середине или в конце тридцатых. Среди них в те годы не существовало деления по национальным и религиозным признакам. Все они – Преображенские, Флейшманы, Айвазяны и Кречетовы, супруги Леселидзе и неженатые братья-близнецы Петруша и Венечка Сокол – встречались в доме Федора Штока по нескольку раз в году, были привязаны друг к другу и следовали давно установленным ритуалам, как полагается истинным москвичам.
Между ними существовал какой-то всеобщий уговор, некий окружавший Павла ореол полунамека. В разговорах-приглашениях на очередное застолье всегда проскальзывало: «А Павлик будет?» Павла приглашали. С ним приходила супруга, которую принято было игнорировать, отделываясь от нее полуласковыми бессмыслицами. В разговорах она участия не принимала, хмелея мгновенно и окончательно и исчезая на кухне, где стоял маленький диванчик и где в шкафчике над раковиной хранился штоф с водкой, настоянной на рябине. Павел никогда не напивался. Каждая рюмка только придавала ему новые силы, и его шестипудовый бас заставлял стекляшки на люстре подрагивать немелодично.
Первыми останавливали взгляд усы. Его усам завидовали многие. Усы у Павла были казацкие, черные с проседью, шириной в два пальца, словно бочарный обод, усмиряющий непокорные доски. Потом глаза: крупные, глубоко посаженные, воловьи. Глаза мерцали на густо исчирканном морщинами лице, словно колодцы-двойники в августовской степи. Увлекшись разговором – а он всегда увлекался, – Павел распахивал глаза, и морщины разбегались, как степные ящерки, исчезая за буграми бровей. Еще выделялись парящие над столом руки, крупные, с темными волосками на запястьях и серебристыми ладонями. И голос, его необыкновенный голос. Сначала вспоминались раскаты грузинского многоголосия. Густые и тяжелые, но в то же время с надломом, происходящим от сплава любви с ожиданием разлуки, замешанной на молодом вине. Потом приходил в голову хохляцкий, «выйди, коханая, працею зморена, хоть на хвылыночку в гай», переливистый лукавый напев. И еще нижегородский басок, скачущий и дребезжащий пилою. И даже что-то шаляпинское, вбивающее в спинки стульев и сгоняющее хмель.
Как это случилось, что в тот вечер в начале апреля 1981 года Павел вдруг, неожиданно для всех, запел сибирские острожные? Было ли это заранее подготовлено хозяевами? Или кто-то из сидевших рядом остряков раззадорил Павла? Склонив голову, отгородившись от всего застолья частоколом мощных пальцев и раскачиваясь из стороны в сторону, словно обезумевший маятник, он пел малопонятные присутствующим песни про воров и разбойников. На пение из кухни пришла теневитая жена Павла и привалилась к спине мужа. Устав слушать, люди начали переговариваться через стол, отбрасывая от себя бередящие свинцово-серые слова песен. Павел продолжал петь и раскачиваться. Среди всего застолья был лишь один человек, который по-прежнему вслушивался в пение, – тринадцатилетний сын Штоков Кирилл. Песня оборвалась, Павел поднял голову, и Кирилл увидел раздавленные слезинки вокруг его глаз. Потом все заворочали стульями, заговорили громко и с облегчением, стали расходиться. Столовая Штоков опустела.
Читать дальше
![Максим Шраер Исчезновение Залмана [litres] обложка книги](/books/435303/maksim-shraer-ischeznovenie-zalmana-litres-cover.webp)

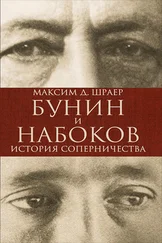

![Максим Заболотских - Случайный мир [litres]](/books/403324/maksim-zabolotskih-sluchajnyj-mir-litres-thumb.webp)
![Максим Недякин - Искренний сервис [litres]](/books/403874/maksim-nedyakin-iskrennij-servis-litres-thumb.webp)
![Максим Фоменко - Освобождение Калинина [litres]](/books/406267/maksim-fomenko-osvobozhdenie-kalinina-litres-thumb.webp)
![Максим Кабир - Призраки [сборник litres]](/books/414245/maksim-kabir-prizraki-sbornik-litres-thumb.webp)
![Максим Макаренков - Дни стужи [litres]](/books/429954/maksim-makarenkov-dni-stuzhi-litres-thumb.webp)
![Наталья Виноградская - Исчезновение в космосе [litres самиздат]](/books/436844/natalya-vinogradskaya-ischeznovenie-v-kosmose-litre-thumb.webp)

