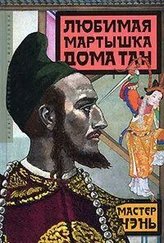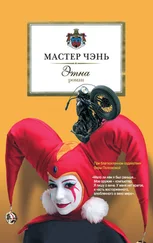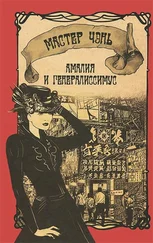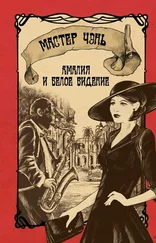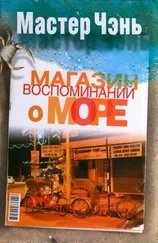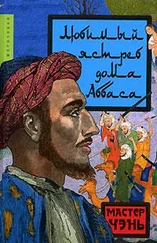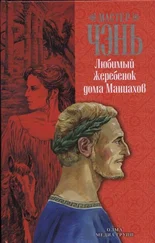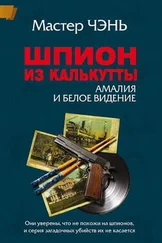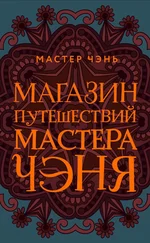И тот же «Фонарь», рисунок: «Ну, тащися, сивка, прочь неудержимо! Увози остатки старого режима!» Но по рисунку-то очень понятно, что остатки режима для сивки неподъемны.
И еще, оттуда же: на обложечной карикатуре полуодетая девица (изображающая свободу) на римской колеснице, пожилые мундирные персонажи суют ей палки в колеса. Подпись:
«Вперед, вперед! – кричит свобода. –
Туда, где право, честь и труд!» –
Но тормоза чиновного народа
Вперед ей мчаться не дают.
Вот вам и ответ на вопрос – что, собственно, происходит в России. Ответ примитивный, но, наверное, точный.
Что за «Фонарь» такой – а это, видите ли, еженедельник, редактор А. В. Заикин, издательница Л. А. Заикина, Дегтярный пер, 22, кв. 43. Паровая Скоропечатня Г. Н. Пожарова. Ну, этих хоть двое, а не один…
Что там писал надменный Станислав про ядовитого и плодовитого гаденыша под псевдонимом Саша Черный? А Черный-то, переместившийся в журнальчик-раскладушку «Маски», ощущает то же, что вижу и я, из своего далека, вижу – просто листая эту печатную истерию. Вот что он говорит:
Дух свободы… К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин, –
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь покоен –
Старый гнет вернется.
А под конец – что ж это с вами, уважаемый Федор Кузьмич Тетерников, господин школьный учитель, – мы ведь с вами встречались, я знаю вас, я чувствую вас… Что же за ужас вы написали, вы, великий символист Федор Сологуб? Рассказ «Дрова». И такой, что долго не забудешь:
«Мы пировали. Нас было много. Нам было весело. Солнце светило из окна, цветы на столе благоухали, испаряя последнюю свою душу для нашей услады, вина были тонки, сладки и ароматны. Наши подруги были молоды и смеялись, как дети».
Федор Кузьмич, это же вы про нас – про меня? И про то, чем завершился наш пир?
«Когда кончился пир, кому-то из нас пришла в голову мысль пойти посмотреть, где и как было изготовлено все великолепие яств, усладивших наш избалованный вкус.
– Покажи нам свою кухню, – смеясь, говорили мы хозяину. – Мы хотим сказать спасибо твоему повару.
Хозяин смутился. Он пробормотал что-то невнятное. Лицо его побледнело. Но мы, смеясь, повлекли его. Тогда он усмехнулся странною улыбкой и сказал:
– Если вы хотите… Но там очень жарко.
И мы пришли в кухню. Громадная печь возвышалась посреди громадной кухни. И печь еще топилась. Пламя было веселое и яркое, и перед печкою свалена была на пол громадная груда огромных поленьев, для чего-то завернутых в полотняные покрывала.
И когда мы спросили у повара, для чего эта печь продолжает топиться, когда мы уже отобедали, он сказал нам:
– Эту печь нельзя погасить ни на одну минуту.
И лицо его, озаренное красным отблеском печного пламени, было угрюмо. И мы наклонились к дровам, потому что от них исходил поразивший и испугавший нас смрад. Тогда помощники повара взяли одно из полен и бросили его в печь. И мы увидели, что это был труп человека, завернутый в саван. И взяли его за голову и за ноги, раскачали и бросили в яркое пламя.
Мы смутились. Мы долго стояли молча и смотрели, как печь пожирала трупы один за другим. И когда принесли новое беремя дров, страшную вязанку, захваченную веревкой на спине дюжего дворника, один из нас робко спросил повара:
– Где же вы берете эти дрова?
И, улыбаясь, ответил нам повар:
– Их много. Больше, чем нам надо. Ходят мимо. Наши дворники их рубят».
Вот этого я хотел? Об этом мечтал?
Но вот, на пороге мокрой весны 1906 года, я возвращаюсь – открываю ключом почтительного и сочувственного дворника свою квартиру, изгоняю из нее тишину и застоявшийся воздух. Подхожу к грязному окну (помыть завтра же): три сходящиеся клиньями серые петербургские крыши, серо-черный провал двора, светло-серый Финский залив в щели между домами, мрачно-серое небо царапает печные трубы. Все это и правда еще существует.
А где-то там, внизу, подумал я, ходит по улицам человек, носящий мое имя, – но это другой человек, из позапрошлого года, смешной, с мечтами и надеждами еще из тех времен, его немножко жалко – но ведь я никогда с ним уже не встречусь. А хотелось бы увидеть его, посмотреть в глаза…
Мой плен сильно затянулся. Мирный договор с Японией был подписан еще в августе 1905 года, но отправка домой десятков тысяч пленных – дело долгое.
Офицеры ехали из японского плена с выданным им жалованьем за все эти месяцы и подъемными, им была предоставлена возможность возвращаться каким угодно маршрутом – и многие выбрали чуть не кругосветный, морской. Нижние чины, целые эшелоны их, ехали домой через Сибирь, но тоже не бедными – в отличие от меня, который вообще мог бы отправиться домой гораздо раньше, японцы отпустили ведь сразу священников и медиков. Но они никак не могли понять, к какой категории пленных меня отнести и кто заплатит за мой путь домой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Мастер Чэнь Девушка пела в церковном хоре [litres] обложка книги](/books/435299/master-chen-devushka-pela-v-cerkovnom-hore-litres-cover.webp)