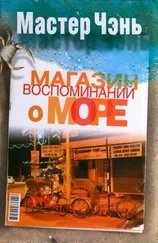А, так он утонул, – но почему все намекают на убийство? А если утонул, то каким образом оказался в шлюпке?
Ну и, понятно, Лебедева с Блохиным подвергли дисциплинарному взысканию, они были поручены строжайшему надзору младшего флагмана, командующего первым крейсерским отрядом – что бы это ни значило. Скорее всего, не значило ровно ничего.
Сухари и стали поводом для бунта, который – наконец-то – вспыхнул вечером.
И была потрясающая сцена. Я упоминал об этой бесконечно красивой процедуре – сначала «Окончить все работы! На палубах прибраться!», потом, в шесть вечера, сигнал к вину и ужину, и далее, среди червонного золота заката – спуск флага, с горнистами и барабанщиками, когда вся команда шпалерами выстраивается на верхней палубе, летят ленточки бескозырок, трепещут клеши штанов.
Но в этот раз…
– Матросы покидали плесневелые сухари за борт, – прошел слух.
И понятно, когда вахтенный начальник возгласил свое «разойдись», матросы остались на верхней палубе, повахтенно, у правого и левого борта – как две стены.
Тут стало тихо, в тишине прозвучал уже голос Блохина, повторно скомандовавшего «разойдись».
Я к этому моменту был там же, где и все – то есть все офицеры, ближе к корме. Корабль вновь четко поделился на матросский нос и офицерскую корму.
В кармане у меня был перепелкинский револьвер, которым я понятия не имел как пользоваться. А ведь он должен выстрелить, раз уж оказался здесь, подумал я, – и кто это сказал? Чехов?
А поскольку мы в пьесе, то как не заметить, что она хорошо отрепетирована. Все были на сцене, даже мы с Рузской (да, она была здесь, ноздри ее раздувались, а вот и Дружинин почему-то подобрался к ней близко, чуть не соприкоснулся), и все знали, что сейчас что-то будет.
Вот и следующая строка сценария:
– Свежего хлеба нам давайте!
И сразу, обвалом – крики, ругань, которые слышны были, наверное, на весь рейд.
И дополнительный свет на палубу, по команде Блохина.
Вот когда между двух матросских фронтов появился Лебедев.
Худой, равнодушный, с головой, подпертой жестким воротничком, он шел вдоль ряда матросов один, как будто о чем-то думая. Крики накатывали волнами, но в момент внезапной тишины с мостика донеслось:
– Ваше приказание выполнено, рулевое управление выведено из строя.
И тут стало еще тише, потом был какой-то общий вздох.
Далее Лебедев махнул рукой не глядя, к нему подскочил мичман с заранее, видимо, заготовленным блокнотом и карандашом.
С фланга он отсчитал десять матросов, переписал их фамилии. Команда вытягивала шеи, пытаясь понять, что происходит.
Десятке этой Лебедев еле слышно скомандовал:
– Шаг вперед – арш!
Пауза длилась менее секунды, после чего все десять шагнули вперед: рефлекс. Их развернули вправо, и десятка помаршировала глубже в носовую часть корабля. А Лебедев и мичман начали проделывать то же самое со второй десяткой.
В этих странных маневрах не было никакого смысла. Но, видимо, на то и было рассчитано: моряки вытягивали шеи, стараясь рассмотреть, что творится на фланге… И не знали, что делать.
А потом задние ряды дрогнули, люди сначала поодиночке, потом уже и толпой стали разбредаться и снимать койки с крюков, таща их в жилую палубу.
В какой-то момент я начал пытаться одновременно следить за этим безумным спектаклем – и посматривать на лица. Лиц было слишком много, мне было нужно увидеть и матросов, и особенно офицеров – и что-то я увидел и запомнил.
Понятно, что ни мое, ни чье-либо еще оружие не выстрелило.
Адмирал Рожественский – вот человек, которого мне до сих пор жаль. Потому что всем было понятно: сделать он не то чтобы ничего не может, но…
Вот он поднимается, на следующий день, к нам на палубу – серая борода топорщится, ненавидящие глаза переходят с одного лица на другое. И он ревет:
– Я знал, что команда здесь сволочь, но такой сволочи не ожидал!
И вдруг – что с ним, он сейчас заплачет? Нет, просто у адмирала от ярости перехватывает горло, он резко машет рукой и поворачивается обратно к трапу.
Потом, конечно, был приказ – про холуев японских, сеющих смуту между немысленными. Под домашний арест попали четыре лейтенанта (с продолжением исполнения обязанностей), фельдфебелей перевели на матросские оклады.
Но в те же дни взбунтовалась команда на пароходе «Русь», одном из наших транспортов. И был мятеж на «Малайе», виновников развезли по карцерам, страшным металлическим коробкам без окон и вентиляции, люди начали умирать. Их перевели на госпитальный «Орел». Ходили слухи о бунтах на прочих кораблях. Вот только нигде, кроме «Дмитрия Донского», не шла, видимо, речь об уходе корабля с последующим разоружением «в нейтральном порту, после чего все мы…». Нигде не звучала мысль «за борт кровососов, но…», и нигде не размышляли насчет того, как поведут себя моряки на прочих кораблях – «станут ли стрелять в своих братьев», если от адмирала поступит такой приказ.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Мастер Чэнь Девушка пела в церковном хоре [litres] обложка книги](/books/435299/master-chen-devushka-pela-v-cerkovnom-hore-litres-cover.webp)