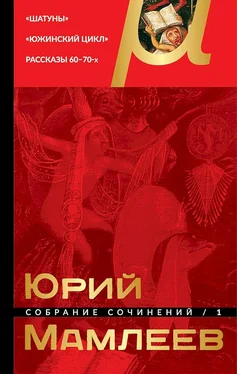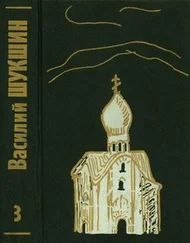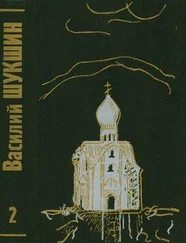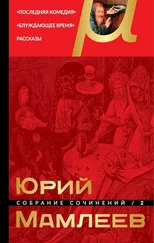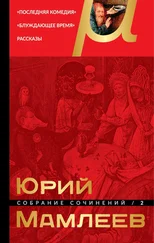Истерический смешок прошел по горлу Падова: ему показалось, что он видит концы этого смеха.
Все сидели в отдалении друг от друга по полуразвалившимся креслам, но у каждого — для тишины — под рукой было по стакану водки.
Масла в огонь подлил Ремин, который из своего угла начал что-то смердеть о жизни Высших Иерархий; что-де по сравнению с этим любые духовные человеческие достижения как крысиный писк по сравнению с Достоевским. И что-де неплохо бы хоть что-нибудь оттуда урвать или хотя бы отдаленно представить, пытаясь сделать скачок от Духа… туда… в неизвестный план.
На Падова особенно подействовало это напоминание; «что нам, курям, доступно!» — слезливо пробормотал он.
Но потом озлобился.
И хотя Ремин еще что-то нес о необходимости вырваться в зачеловеческие формы «сознания», мысль о дистанции пред Неведомым задела и Падова, и Извицкого. Она даже повергла их в какой-то логически-утробный негативизм.
— А может быть, все Абсолютное движется только в нас… Даже сейчас, — вдруг захихикал из угла Извицкий.
Он поперхнулся; всем действительно хотелось именно «сейчас» воплощать абсолютное, чтоб и теперь, в сегодняшнем облике, вмещать его, иначе слишком обесценивалось «теперешнее» состояние и «теперешние» мысли. От нетерпеливой любви к себе Падов даже дрожал. А Извицкий недаром еще раньше искал какой-то обратный, черный ход в мире, который вел бы в высшее, минуя все иерархические ступени.
Наконец после угрюмого молчания Извицкий сразу заговорил о парадоксальном пути.
Он набросал картину мира, где к трансцендентному можно было бы прийти через негативизм, чрез отрицание; это был мир, в котором положительное как бы уничтожалось, а все смрадно-негативное, напротив, становилось утверждающим.
В этом мире, или, вернее, антимире, всему отрицательному и злому давалась живая жизнь; и даже само небытие становилось в нем «существующим»; это была как бы оборотная сторона нашего мира, вдруг получившая самостоятельность; и наоборот, обычный мир положительного здесь становился вывернутым, исчезающим.
Все это находило, конечно, греющий душу отклик у Падова и Ремина. Но Извицкий не очень искал попутчиков…
Поэтому разговор (словно метались души) переменился и принял другое направление.
Сначала вскользь — для издевки — коснулись некоторых странных, даже комичных моментов послесмертной трансмиграции. Потом — насмеявшись и разгорячившись, упомянув о секте спасения Дьявола, — вдруг перешли к учению Sophia Perenial. Холод и трансцендентное спокойствие сразу овладели всеми. А затем — о воплощении Логоса, о Веданте, о суфиях, об индуизме, обо всем, где рассыпаны бессмертные зерна эзотеризма. И о зияющей пропасти Абсолюта, о Его святой Тьме, по ту сторону любого бытия.
И наконец — после какой-то неожиданной истерики — о том, о чем говорить нельзя…
— Этого не надо, не надо касаться; мы погибнем! — в ужасе закричал Ремин.
Все сгорало в каком-то напряжении. Дальше идти было невозможно. Разговор приостановился.
— Вот он: русский эзотеризм за водочкой! — проговорил кто-то под конец.
VIII
На следующий день утром, после того уже как приехала Анна, калитка сонновской обители отворилась, и две нелепые, странные фигуры показались на дворе. Одна из них вела другую под руку. То был Федор Соннов, а второй — Михей, который любил, чтоб им гнушались. Медленно, точно принюхиваясь, они обошли весь дом. Из открытого окна Клавуша приветствовала их, равномерно помахивая щеткой. Первым на гостей выскочил дед Коля; визгливый и тонкий, но с остановившимися, выпученными глазами, он помахал тряпкой на Михея. Михей стоял покорно, просветленно улыбаясь в Колино лицо. Федор вдруг развалился на траве, как свинья; и было странно видеть его жуткую, полумертвую фигуру, валяющуюся на земле и этим похожую на отмеченную природой обыкновенную свинью.
Понемногу из дому стали высыпать и его другие обитатели. Даже солнце, светившее на этот раз яростно и неугасимо, точно почернело, словно у солнца имелся разум. Никто даже не собирался завтракать; все были заняты собой и своими гнойными мыслями.
А Федор даже не обратил внимания на Аннушку, которая не прочь бы с ним по мракобесию пококетничать.
— Чрез смерть нашу имею только общение с женщиной, — прорычал он ей в лицо и пошел из дома на Лебединское кладбище, где сиротела могилка Лидоньки.
Там, в одиночестве, Федор долго плясал, если только можно назвать то, что он вытворял плясом, около ее могилы. Пятил губы вперед, на невидимое.
Читать дальше