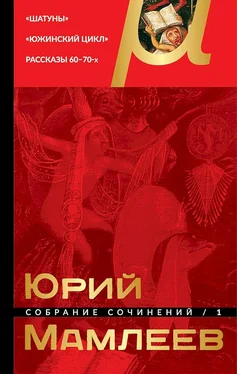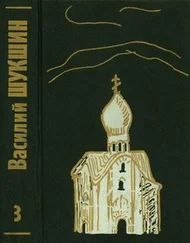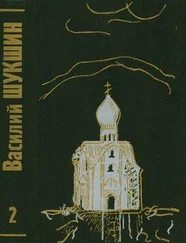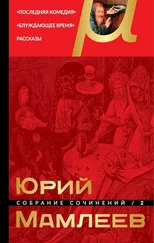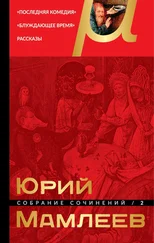18-е. Мои соседи напоминают мне хорьков. У меня всегда такое впечатление, что у них два зада; лишний — сама голова.
Есть, правда, две злобные, как столетние крысы, старушки, и к тому же враждуют между собой. Но злоба настолько уродливо въелась в них, что превратилась в самомучительство. Она преследует их день и ночь, они грызут себе руки…
Началось все с того, что одна из старушек долго не могла достать пшена, обходила все магазины, простояла в очереди, и пшено как раз кончилось у нее перед носом. С горя она заболела. И услышала, что другая старушка страшно этому обрадовалась. А обрадовалась-то она не по злости, а просто, чтоб себя утешить: она также весь день простояла в очереди за импортным гусем и не достала.
Но с этого момента заболевшая старушка стала мстить, и все шло у них в таком духе: кто друг дружку переживет. Каждое утро старушки норовили встать одна раньше другой, чтоб показать, что живы. Подглядывали в щелку, когда приходил врач. Когда «пшенная» чем-то отравилась, другая напилась и пустилась в пляс. Я месячишко-другой жил этой ссорой. Я понимал, что переживу их, и играл роль третьего, насмешника, затаенно радуясь, что они не видят своего главного врага. Я всячески натравливал их друг на дружку, умиляясь при мысли, что от неполноценной злобы они скорее подохнут.
Один раз я распустил сплетню, что Петровна совсем плоха. Так пришлось взять свои слова обратно, ибо Петровна настояла, чтоб я при другой старушке опроверг домыслы. И показала ей язык. Я плюнул и не стал принимать в их смерти большого участия. Но знаю — момент придет сам собой.
20-е. Утром удалось харкнуть в кастрюлю соседа.
22-е. Вчера звонил по телефону матери сослуживца. Приглушенным, измененным голосом сообщил, то есть наврал, что ее сын попал под машину и лежит в морге больницы Склифосовского.
Сегодня сослуживец не вышел на работу — наверное, с матерью было плохо.
24-е. Сильно толкнул на платформе старика. Убегая, подглядел, что старик долго держался за сердце.
26-е. Шепнул маленькой девочке, идущей из школы, что ее папа отдавил себе ногу.
27-е. Тусклый и скучный день.
Толкал очень неудачно. Кто-то обругал матом.
После работы ничего не лезло в голову, так отупел, что не нашел ничего более гадкого, чем пошло звонить по телефону, через каждые две минуты, какому-то идиоту.
Ужинал. Побродил. И с горя зашел в кино.
28-е. Приятная новость: неподалеку молодая женщина болеет, безнадежно, раком. Но от нее тщательно скрывают. Она убеждена, что выздоровеет, что у нее язва. Сегодня написал ей анонимку, очень убедительную, что у нее рак и жить ей осталось недолго.
30-е. Обмочил ботинок соседа.
2-е октября. Подхватил легкий гриппок, чихал на кухне в чужие сковородки.
4-е. Опять неудачно толкал. Нудный день. Видел одного человека, показавшегося мне счастливым. От этого целый день выло в башке. Ничего не получалось. По злобе я чуть себя не открыл. Ночью, бредя по коридору в сортир, заорал благим матом, чтоб перепугать соседей. Кто выскочил, кто на крючок заперся. Я сказал, что увидел мышку.
Сегодня испортилось настроение оттого, что сосед купил машину. Моя бы воля — я б его подстрелил.
В душе — смурно, смурно, но радостно от постоянных мелочей, ничего за ними не видишь; то пожрать — в очереди стой; то за колбасой — на автобусе съездишь; то пуговку надо зашить; то просто — мыслей нет. И мелких пакостей можно творить видимо-невидимо. Правда, тут тайком прослышал, что один старичок только что вылез из больницы после инфаркта. Хочу его крепко толкнуть. Если наука права — эффект будет брызжущий, может быть, смерть.
Но без мелочей, без въедливых — все не то. Ожерелье должно быть. Дневничок, дневничок, дневничок… Память у меня, невидимый, ослабла… Списочек надо мелочей составлять. Как толкану старика, в этот же день — нужно: 1) удавить котенка Лебедевых, 2) плюнуть в чужую кастрюлю, 3) испугать старушку, 4) подглядеть в щелку, 5) пустить по квартире две сплетни, 6) написать анонимку Брюхову, 7) …
Не было ни снов, ни кошмаров, исходящих из плоти, ни тупого ощущения смерти, которой нет, ни страха, выворачивающего внутренности. Просто Григорий знал: надвигается ужас. Якобы все оставалось дома на месте: дома-коробки, равнодушные к своему существованию; солнце в пустом небе; трамваи. Но в мире появилось нечто, имеющее отношение только к Григорию. Поэтому остальные ничего не замечали. Оно было скрыто, но казалось, все вещи в миру, даже сам воздух, были лишь его оболочкой (или завесой?!). Да и то, главное, было не в этом. Главное стало в сжимающейся душе Григория… Но почему она сжималась?! Может быть, что-нибудь неизвестное входило в неё и она опустошалась?! Но зато многое выражалось в его глазах. Они, сами по себе маленькие, выкатывались, и на их поверхности соединялись такие слезы, водяные тени и испуг, что и сумасшедшие могли бы сойти с ума еще раз. А как подпрыгивал Григорий, ведомый своими глазками! Ноги он расставлял в стороны, широко, как лягушка, и затем прыгал вперед, в пространство. Официанты одобрительно смеялись, глядя на эти сцены. Волосы у него при этом поднимались вверх, как у Мефистофеля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу