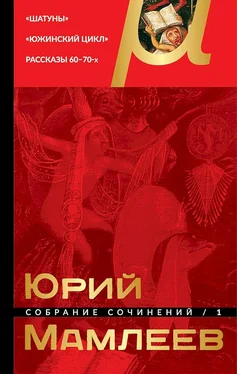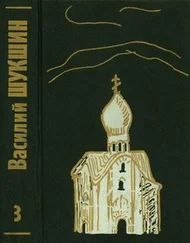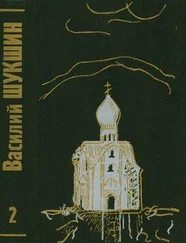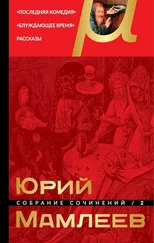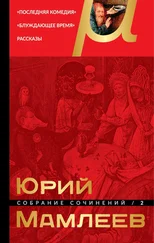Гриша — огромный, чудовищной силы малый лет тридцати с очень тяжелым, массивным, не то от дум, не то от толщины костей, черепом и звериным, отпугивающим детей и приманивающим женщин, оскалом. Обычно в карманах его по ножу.
Уже целый месяц у него длится скандальный, громкий, на всю улицу роман с дворовой проституткой Танечкой.
Танечка — полный антипод Пенькову. Она маленькая, изящная, с распущенными волосами и томными порочными глазами. Но иногда ее глазенки загораются искристым, восторженным светом, как у гимназистки, смотрящей в небо.
Больше всего на свете она любит стихи, проституцию и любовь. Да, да, любовь. С самого первого дня ее тяжкого, тротуарно-слезливого падения Танечку преследует мысль о большой, светлой, как крылья ангела, любви. Чего только она не делала для этого!
Одному толстому пьяному мужику она нарисовала углем на его жирной, помойно-сладкой спине крылышки. Очень часто, на время соития, она любила вешать перед собой на стенку нежную картинку с изображением младенцев.
«Хоть и не поймешь кто, а все-таки младенцы, невинные дети», — думала она. Но любовь не приходила. Тело все время было удовлетворено, как после хорошей отлучки в уборную, но душа была мертва и молчала.
«Как хорошо люди устроены в отношении еды, — рассуждала Танечка, — и как плохо в отношении половой жизни. Поел и на тебе: все просто, ничего не ноет, только спать хочется, а пожил и на тебе: душа скорбит».
Кончилось тем, что Танечка сама нарисовала странный, непонятный рисунок. Он изображал мужчину-«одеял», как она его называла, вместо «идеал». Впрочем, если зритель был сильно выпивши, то фигурка могла смахнуть за человеческую. Странно только, что волосы у нее стояли дыбом.
Этот «портрет» Танечка неизменно вешала перед собой на время соития.
А месяц назад судьба столкнула ее с Пеньковым. Танечку привлекла в нем, во-первых, его безотказная, животная мощь, выставленная напоказ: Пеньков даже по двору ходил, почесывая член. Надо сказать, что стыдливая, скрытая потенция пугала Танечку, и она робела перед такими людьми, как в церкви перед священником.
Во-вторых, привлекло Танечку в Пенькове то, что он все-таки задумчивый, не такой, как все. Это соответствовало ее смутному желанию найти любовь.
Так начался их роман.
Он произвел большой шум, ибо Пеньков своим тихим, абстрактным мордобитием и философичностью так загипнотизировал Танечку, что она перестала отдаваться остальным обывателям.
Но тайна их клопино-романтического, пылкого романа заключалась в другом. Сам Пеньков, кстати, был довольно странное, угрюмое, но с проблесками дикого, истерического веселия существо. Родился он в крепкой, одуревшей от самой себя рабочей семье. Родители ненавидели его за идеализм. На этой почве между ними происходили долгие, стулокрошительные драки. Пеньков вообще не мог говорить с ними, а всегда орал. Еще ничего, если б в самом Пенькове все оказалось в порядке. Но, выродок в своей семье, он был еще и выродком-неудачником. Для «эволюции» нужно было бы, чтобы он стал выродком какого-нибудь спокойного, эстетического, что ли, плана, а он — бац! — сразу влип в задумчивую мистику.
В первом случае ходил бы он потайненько в библиотеку, читал бы Гумилева с Ахматовой и приобретал бы некоторую утонченность в чувствах, и все складывалось бы потихоньку, закономерно, и, может быть, при удачных обстоятельствах что-нибудь произошло. Но получилось наоборот; «природа» совершила скачок и, оставив Пенькову необычайную тупость и животность во всех отношениях, осенила его лишь в одной области: в области «мистики».
И тут тупость давала себя знать: мистицизм Пенькова был своеобразный, параноидальный, не без «творчества» — он для себя додумывал некоторые мистические идеи.
Танечка страшно привязалась к Пенькову. И даже несколько дней не вешала на стенку картинку со своим чудищем. Пеньков заменял ей все. Гриша тоже первые дни лип к ней. Поражала его ее сексуальная боевитость: как раз то, что нужно было Пенькову. Но многое потом стало смущать его. Бывало, после бурного, крикливого, со стонами и битьем посуды, соития лежали они в постели тихие, присмиренные. Пеньков обыкновенно засыпал: так он делал всегда после акта или поножовщины. Но Танечка тормошила его.
— Лыцарь ты мой… Нибелунг, — говорила она, целуя его в зад.
Пеньков приоткрывал глаз и страшно смотрел на нее: сразу после соития ему не хотелось ее бить.
Их дни были странные, наполненные истерикой Танечки и голым невозмутимым спокойствием Пенькова.
Читать дальше