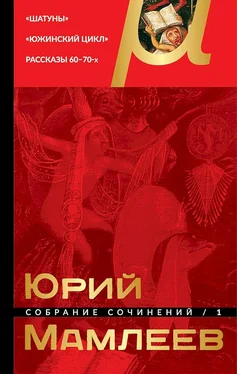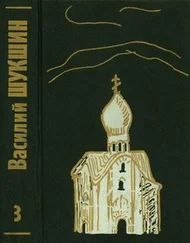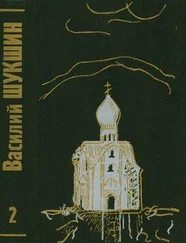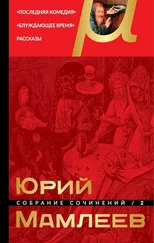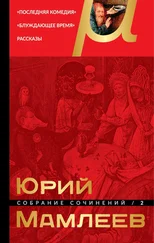Бывало, что и тоска нападала на него, особенно не любил он предчувствий, но предчувствий не по какому-либо поводу, а предчувствия вообще — холодного, смутного, сидящего где-то в голове, посреди мыслей; он даже дергал головой то влево, то вправо — чтобы вытряхнуться. Старушка Кузьминична — мать Варвары — называла такое предчувствие от Господа.
«Господь-то не оставляет тебя, Митрий», — милостиво говорила она зятю.
Пить Митрий Иванович не пил, на Руси — это большая редкость.
Объяснял он это так: «Серый я человек, чтобы пить. Водка ведь напиток ангельский. Ее люди чистые пьют, с детской душой. А я черненький — весь в гвоздях и в рамах перевыпачкался».
Это были самые глубокомысленные слова за всю его жизнь, вообще же он больше молчал или говорил деловые, целенаправленные слова.
Так и проходила его жизнь — свет за светом, тьма за тьмой.
Смерть подошла незаметно, когда ее не ждали, как надвигается иногда из-за спины тень огромного человека.
Сколько раз, еще в детстве, он видел, как на его глазах умирали люди от этой болезни — от рака. Но ему не приходило в голову, что это его коснется. Умирали по-разному: кто проводил свои последние дни во дворе, разинув гниющий, предсмертный рот на солнышко, точно глядя на него таким образом; кто, наоборот, — в смрадной, темной комнате, на постели, закрывшись с головой одеялом, дыша своей смертью и испарениями; кто умирал тоненько, визгливо и аккуратно, даже за день до гибели прополаскивая исчезающий рот; кто — громко, скандально, швыряя на пол посуду или кусая свою тень…
И Митрий Иваныч тоже прочувствовал смерть по-своему, по-мухеевски.
Когда он совсем захирел и не на шутку перепугался, то поплелся в поликлинику, в самую обыкновенную, в районную.
Поликлиника со своими длинными одноцветными коридорами скорее напоминала казарму, но казарму особую, трупную, где маршировали и кормились одни трупы, а командовали над ними жирные, сальные и страшно похотливые существа в белых халатах.
Наплевано было везде, где только можно, и от тесноты люди чуть не садились друг на друга. Были, правда, какие-то странные тупики, где ничего не было, ни врачебных кабинетов, ни туалета; иногда только там маячили призрачные, мечтательные фигуры, почесывались.
Из кабинета в кабинет то и дело шмыгали врачи и сестры; Митрию Иванычу стало страшно, что от этих типов и от всякой аппаратуры, стоящей по углам, зависит его судьба. Он чувствовал дикую слабость, и от этой слабости он ощутил свое тело совсем детским, хрупким и призрачным, как у малолетнего ребенка; он всплакнул; сладенькая дрожь разлилась по всему телу, а сердце — родное сердце — колотилось так, как будто билось высоко-высоко, у самого сознания.
Точно просящий помилования, жалко улыбаясь, он вошел в кабинет.
Врачиха была толстая и еле помещалась на стуле; она покачивалась на нем, как болванчик. Работала она грубо, остервенело, точно стараясь как можно скорее добраться до истины, до диагноза, Митрий Иваныч аж вспотел.
Диагноз, видимо, ей не понравился, она чуть было не выругалась по-матерному.
Когда несколько крикливых врачей в рентгеновском кабинете громко брякнули «канцер» (слово «рак» было запрещено говорить), а шепотком между собой добавили, что хоть опухоль небольшая, но в таком месте, что совершенно безнадежна и скоро наступит крах, Митрий Иваныч все понял, понял, что конец. Он и раньше, когда трухнул, об этом догадывался. Но после приема, выйдя на улицу, он вдруг почувствовал прилив сил. Скорее не физических, а нравственных.
«Ни хрена, пустячок», — как-то тупо и неожиданно для самого себя подумал он. А что, собственно, было пустячок?
«Ни хрена — пустячок!» — опять тупо, озираясь, подумал он.
А дойдя до скопища домов, которыми он управлял, Митрий Иваныч совсем оживился, как гнойная муха от дуновения тепла.
— Они меня переживут! — истерически взвизгнул он и даже почувствовал облегчение.
Он вспомнил виденное им когда-то изречение на могиле академика Марра, что человек живет в своих делах, а не в самом себе (и поэтому единственный смысл жизни — наделать как можно больше всяких дел).
— Дяла, дяла, дяла самое первое! — закричал Митрий Иваныч и замахал шляпой своим домишкам. Какие-то хохотки преследовали его по пятам. Но он сначала не обратил на них внимания.
Подбежал из последних предсмертных сил до покосившегося домца; глянул в оконце: Вася, пол-то какой, пол! Я его переделывал.
Вася показал пьяный кулак.
Читать дальше