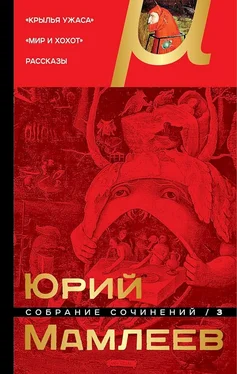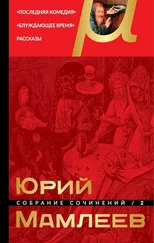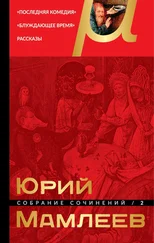Точно невидимый мир теперь отражался в этом зеркальном пространстве, выходя из него в наш мир.
Семен Ильич сам стал хохотать от ужаса, приподнявшись на подушке. В постель к нему сыпались какие-то твари, полуосязаемые, норовили лизнуть…
Жажда сумасшедших ласк объяла его…
Потом на стул сел такой темный и огромный, что Семен Ильич присмирел. Глаза его смотрели в упор на Семена Ильича, выражая абсолютно-непонятное. Кот, каким-то чудом оказавшийся в комнате, дико визжал, будто превратился в свинью, и метался из одного угла в другой, нигде не отражаясь. Голова у огромного кота вдруг отвалилась, и на ее месте появилось сияние: жуткое и безличное. Кот почти заплясал, завертелся в поле этого сияния. Качалась лампа, два беса целовали друг друга на стене.
Поток времен выливался из зеркала, словно океан крови, в которой купались планеты, города, страны и люди. И вокруг этой погибели и оазисов рая в ней кружились и безумно хохотали какие-то юркие существа и бурно аплодировали всему мирозданию.
Мухи то и дело залетали в рот Семену Ильичу. В углу выл труп его сестры, погибшей под поездом, протягивая Семену Ильичу свои желтые руки.
На столе оказался козел с плакатом.
— Кто я?! Кто я?! Кто я?! — кричал Семен Ильич на своей постели.
И вечный луч абсолютно-непонятного был направлен на него, задающего такой роковой вопрос.
Прихлопывал ладошками черт — но черт из других метасистем.
И вдруг Семен Ильич понял.
И как только это случилось, все таинственно исчезло.
Объективный бред, навязываемый Вселенной, приутих, как будто Вселенная зависела от его сознания. Но комната казалась обычной, и зеркало стояло неизменно: но оно уже было, как вначале, абсолютно черно, и эта тьма, ведущая в бездну, была непроницаема, как смерть всего существующего.
Семен Ильич тихо встал и опустился на колени перед черным зеркалом. Он познал, что напрасны его искания, направленные вовне.
Что сущность его глубинного «Я» так же непознаваема, как это черное зеркало, и бездонная, уводящая в за-абсолютное, невидимая глубина этого зеркала — лишь проекция его собственного «Я».
Познав все это до конца, Семен Ильич заплакал — один, перед зеркалом.
Потом встал уже совершенно иным существом, может быть навеки успокоенным, только промелькнула улыбка, которая была выше всего земного и всего небесного.
И поскольку Нью-Йорк и тому подобное потеряло для него всякое значение, больше его там никто не видел.
Коля Гуляев ничем особым не был наделен; все было в меру — и красота, и ум, и глупость, и отношение к смерти. По жизни он шел тихо, как по болоту, и взгляд его глаз был тоскливо-неопределенный, точно все ожидалось впереди — там где-то, после смерти или даже после многих смертей. Жизнь он любил, но как-то осторожно: мол, ну ее, жизнь-то, как бы еще не пристукнули. И даже тайна, наверное, в нем присутствовала где-то глубинно-внутри, и он часто забывал поэтому, что у него есть тайна.
Домашних у него не было, кроме лягушки, жившей на кухне, невероятно просыревшей. Гуляев и сам по себе просырел и во сне удивлялся не раз, почему по его ногам не ходят ночью лягушки.
Кроме лягушки, с которой он любил молчать, был у него еще друг закадычный, по школьным годам, Никита Темнов.
Школьные годы для них давно миновали, прошли и студенческие с их боевыми песнями. Друзья женились, развелись, и шел им тридцатый год, точнее, Никите тридцать первый, а Коле двадцать девятый. Со временем жизнь становилась все обыкновенней и обыкновенней, точно ее уже не было. Спеты были песни, увидены моря-окияны, не мешал даже ежедневный монотонный труд. А когда-то Никита любил дождливые дни.
— Ну его, солнце-то, — говаривал он в студенческие годы. — И чего светит без толку! Как ни крути, а при свете всего никогда не узнаешь. Чего в нем хорошего, в свете-то?
Вскоре ему и это стало безразлично: что дождливый день, что солнечный. Но от здравого смысла друзья тем не менее никогда не отказывались. Наоборот, именно здравый смысл заволок весь горизонт их бытия. Активно работали, лечились (словно можно вылечиться, но лечились все-таки с целью), и вообще всяких задач было много.
— Всего нам никогда не достигнуть, — объяснял Никита Колюшке своему.
Жизнь, словом, длилась равномерно и как-то непоколебимо.
Собрались они однажды в пригород, к друзьям. Шли небольшим лесом, даже не лесом, а так, не поймешь что: где-то полянка, где-то поле, а где-то и лес.
Никита и говорит своему Колюшке:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу