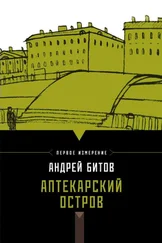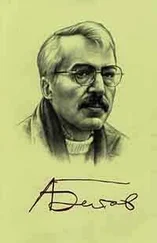Рассказывают также, что в Москве, в доме Герцена, водится почтенный человек с обязательной еврейской фамилией, организатор писательских похорон. Действительно, дело и хлопотное, и не всякому по плечу, и в любую минуту надо быть во всеоружии. Наверно, и в отпуск ему уже который год не уйти — не отпускают, боятся без него не справиться. А однажды, наверно, отпустили, уже он и чемодан собрал, и пижаму уложил сверху, и па вокзал отправился с билетом в кармане — бац, умер! и не кто-нибудь, а из самых-самых, догнали, вернули. Знаменитый человек, со всеми знаком, с каждым за руку и по имени-отчеству. Посмотрит — словно мерку снимает. На глаз определяет с точностью до сантиметра. Там, наверно, свои размеры, у гробов, как у калош. С., скажут ему. С.? — скажет он, — это какой, у нас их три. Ах, К. — рост 4, полнота 3. Молодыми, говорят, он не интересуется, не ценит, не замечает. А они ведь растут, молодые… Наверно, думает, до пенсии годика два осталось, плодово-ягодный участочек неподалеку, за кладбищем третья остановка, развел. А зря он молодых недооценивает. Вот и у Ш. инфаркт был, и у Г. — спазм, и у Е. — запой, и у В. — половое бессилие, а у А. — разжижение мозгов. Конечно, похороны у них какие! нет того торжества и почета, но все же… похороны.
Да, вот отвыкнешь от города, не повидаешь подолгу людей, с которыми стоишь, так сказать, в одном строю, одними помыслами живешь и одними чернилами пишешь, — и, глядишь, отстал, не в курсе. Ты там тихонько сидел, и кропал, и думал — дело делаешь, а тебя тем временем отстали. Приедешь, там, в город за надобностью, оторвешься от трудов, спички, там, купить надо, соль, а тебе только спины да жопы показывают, и окликнешь — теряются и руку подают неохотно, со-крушенно так, осуждающе посматривают: что же это ты, парень… мы тебя и похоронили по всем правилам, а ты живым прикидываешься. Ты же умер давно, кончился, тебя и нет теперь в нашем списке, другая нынче обойма, мы тебя вытолкнули, мы тебе спины уже показали, не дыши ты нам, пожалуйста, в затылок, все равно не догонишь. Впрочем, люди вежливые, виду, конечно, не покажут, что ты умер, самообладание у них, созерцание трупа не расстраивает их воображения или пищеварения, глазом не моргнут, пообвыклись, поволнуются еще в душе, долго ли ты их так держать за пуговицу будешь и расспрашивать, долго ли им еще с ненужными уже людьми разговаривать, им же бежать надо, они еще живые, но тоже ведь вежливые, не скажут, лишь пере-минаются от нетерпения, переступают да на женщин, мимо идущих, поглядывают, а как узнают, что ты всего за солью да за спичками, а там назад, — и вовсе успокоятся. Ну что ж, скажут про себя, покойник-то еще новичок в своем деле, подышать ему с непривычки захотелось, но дисциплинированный, знает, что в гроб вернуться надо, ничего, пообвыкнется, раз-другой еще вернется — и все, успокоится. И посмотрят па тебя так, что словно бы ты стал стеклянным, утвердятся в том, что тебя и пет больше, сунут руку как бы в пустоту и побегут дальше.
Я теперь в город не езжу. Я за солью и спичками теперь рядом хожу, в местный кладбищенский гастроном. Ничуть не хуже. Совсем то же самое. Что живые, что мертвые — кто разберет? Кто как себя считает. Хожу я в этот гастроном и удручаюсь. Что это, думаю, никак не накупить этих спичек и этой соли так, чтобы и ходить не надо было. И что за прок — ходить? Что за радость в этом писательстве? Все одни затраты. Вот и спички по копейке, и соль — сразу семь за пачку. И друзья молчат, и издатели не чешутся. Копейка да копейка, да еще семь, да еще копейка…. Уже гривенник. Так ведь это только образ — спички и соль — на самом деле, дешевка. А масло, а мясо? хлеб нынче тоже… Побриться — и то на одном мыле да лезвиях разоришься, если еще помазки терять не будешь. Борода-то все растет и растет, сколько ее ни брей. Я бы сбрил ее зараз, всю ее длину, на мой век положенную, но нет, получай ее день за днем, как по карточкам, и седые волоски пересчитывай. Одних сапог сколько сносишь, бумаги сколько переведешь, машинистки тоже не бесплатные… А в награду — что? Тебя же нет, ты умер, какая награда!! Ах, знали бы вы, все — одни расходы…
Вот и спать пора. Укладываться в свой отсыревший гробик. Полпервого. За окном тьма кромешная, и я в стекле отражаюсь, и машинка моя отражается. Темный я какой-то в этом стекле, мрачный. Не люблю я себя. Хорошие рассказы пишет Генрих Шеф. Я уже же не пишу, я же труп, что я могу. Жена за меня допишет. Я бы еще рисовать стал или петь, играть Баха на тетином фортепиано, но не умею. Я вот ничего в темном своем стекле не вижу — электричество мешает. Погасить разве да к темноте привыкнуть? А зачем? Я же все там, за окном, и так очень хорошо знаю. Тут ночами по Токсово хулиганы ходят. Меня, небось, очень хорошо из окна видно. Удобная мишень. Взять меня и пристрелить. Из профилактики. Чтоб оживать не вздумал. Не было бы так холодно, выбежал бы посмотреть, как меня с улицы хорошо видно. Но и это бессмысленно, потому что тогда меня за столом не будет, когда я на улицу выбегу, и я увижу лишь пустую комнату. А может, так оно и есть на самом деле — комната-то пустая. Я сам бы пошел сейчас по Токсову с хулиганами, прислушиваясь к тому живому, что заворочалось бы при этом внутри: в какой сад залезть, какое стекло выбить?
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)