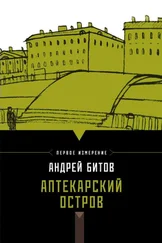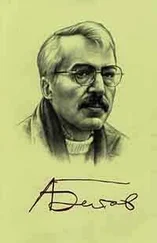Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке».
Как это действительно далеко, старинная битва!.. В какой дымчатой, в сколь преломленной перспективе затерялась она… Ее разглядит лишь поэт, наведя свой кристалл, сильнее которого не производила оптика. Лишь он разглядит сквозь слипшиеся линзы веков этот прах и этот пепел. А мы, уже сквозь строку, прослышим этот неявный звон мечей и топот коней, не сразу отличим его от шума собственной крови. Но наша кровь — в жилах, та была — из жил… И какой-то запах — не то озон, не то пыль. Не то озноб, не то наши ноздри раздуваются, как ноздри коня, — неужто того коня, которого так давно нет? Ближе, ближе… Битва приближается к нам. И это уже не наш собственный звон в ушах, не только наш пульс распирает нас и рвется наружу, будто кровь чует приближение раны, — это уже и впрямь снаружи, но не может быть, чтобы воображение завело нас так далеко, что и впрямь там, за соседним леском, воскресла ТА битва. Это еще что-то атмосферное — раска-ты, погромыхивания: ПРИБЛИЖЕНИЕ ГРОЗЫ…
Ты близко. Ты идешь пешком
Из города, и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатишь по оврагам.
Что-то другое, однако, все это, не только погода… «Займешь обрыв…»
Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.
Это ядро, будто прилетевшее из мандельштамовской гравюры (безусловно, самостоятельное ядро; думаю, эти два стихотворения ничего не знали друг о друге…), относит нас на максимальное расстояние от столь дачного, пастернаковского опыта с рассыпавшейся поленницей… Время в этой строфе взрывается куда с большим шумом, чем отдаленный грохот грома и приближенный, — некой, наверно, непригодной крышки…
Как внутренний слух был заглушен внешним шумом, так внешний мир снова будет вытесан если уж не воспоминанием, то ассоциацией. Мир внутренний снова отвоюет рубежи у мира внешнего:
Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всей купой в сумрак вступит тополь.
Метафора наступает на внешний мир глаголом, возможным действием: оцепит, пахнёт, вступит… Внешний мир отсутствует, становясь фоном происходящего. Ласточки покинули поле боя, и дерево слилось с сумраком, с врагом. Внутреннее с внешним еще раз поменялось местами, окончательно нас опутав. Внешний шум отдалился от шума внутреннего, пробудив ассоциацию с чем-то бывшим, что может повториться сейчас. Время отступило перед пространством, чтобы вновь отступить перед временем:
Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты — до шведа,
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.
Противники — внешнее и внутреннее, прошлое и настоящее, пространство и время — почти сошлись в равенстве боя. Время оказалось куда более прошлым, чем память о запахе окопа, чем сам окоп первой мировой; пространство — куда более настоящим, только что шевельнувшим верхушки деревьев, только что пахнувшим холодом. Но так эти категории и не победят друг друга, как и суждено им — соприкасаться, _ но не проникать; внутреннее и внешнее, время и пространство разбегутся по изначальным позициям:
Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.
Разыгравшаяся было битва тут же оказалась воспоминанием, воспоминанием даже не о битве, а о видёнии битвы, тут же переродившемся в видение. «Шлемы и костюмы» оказались почти с той же слабо запомнившейся гравюрки, что и у Мандельштама… Мандельштаму она пришла от замершей перед взором медитерран- ской картинки, где медленно текшая струя меда остановила время, а буйный изгиб винограда мог быть остановлен лишь резцом гравировщика — остановленное движение, замершее время; Пастернаку — как бы наоборот: через родившееся от внешнего движения время в изначально осуществленном мире, — ожившее время, прорванное пространство. Но и видение, и видение отступят перед завтрашним днем, всю эту память о памяти в себе заточившем:
А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнусь на шар гранаты
И повесть в комнату вносу,
Как в оружейную палату.
Замечательное свидетельство рождения замысла, уже прозаического! Видение, оказавшееся предвидением, наткнувшееся на самое себя в окончательно материальной форме, подтвердившей точность душевного умозрения. Граната эта будет, граната эта была! Взаимоотношения внутреннего и внешнего, прошлого и будущего, пространства и времени выведены в итог взаимоотношений поэзии и прозы, замысла и. осуществления. Богатейшие оттенки времени во взаимоотношениях множества абстрактных категорий переданы настойчиво одним грамматическим — будущим: повесть есть, но ее нет — она еще может быть написана.
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)