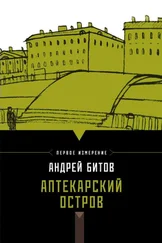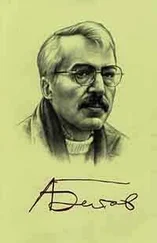Здесь его и подобрали, израсходовав внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре Коломны, но — в наше с вами время: мокрый насквозь, под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами «М» и «Ж» на месте былой церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки…
Там он и сидит, кончая свой двадцать первый…
За окном, в черном космосе, шелестит великое трехсотлетние; спутники развешаны, как гирлянды на новогодней елке; праздничные шутихи перелетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания.
Палата его тиха и отдельна, но он и так ничего не слышит: времена спутались в его голове, в ней, бедной, не прекращается погоня будущего за прошлым: он гонится за Евгением, Евгений за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону — все гонятся за ним, и тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом полете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Германн — тройку, семерку, туза, перебирая теперь уже такие древние строки:
Дар напрасный, дар случайный…
Посадят на цепь, как зверка…
Похоронили ради Бога…
Он сжимает и разжимает кулак, в котором — пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он — спокоен. Его счастье — они не догадываются, что она — подлинная!
Все больше бессилие овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир! Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глуха, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей и дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотлевает.
Слайды Игоря проявили, пленки прослушали… Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стер. Но — только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотнесении с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка «Последняя туча рассеянной бури…»; молодой лесок, тот самый, который — «Здравствуй, племя, младое, незнакомое…»; портрет повара Василия, захлопывающего дверь; замечательный портрет зайца на снегу: в стойке, уши торчком, передние лапки поджаты; арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом, во-круг гарцующие абреки; рука со свечой и кусок чьей-то бороды; волны, несущие гробы… и дальше все — вода и волны.
И пленки: шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотанье, будто голос на другой частоте или магнитофон не на той скорости, и вдруг — отчетливо, визгливо и высоко: «Никифор! Сколько раз тебе говорил: ЭТОГО не пускать!»
И здесь мы ставим точку, как памятник, — памятник самой беззаветной и безответной любви.
И обнаруживаем себя, слава богу, в своем, в собственном времени. НАШЕ время (мое и ваше): под утро 2 5 августа 1 9 8 5 года.
И поэзия приводила их в такое упоение, что они стали усматривать в случайно попавшихся стихах великие примеры будущей судьбы.
Таким образом, действительно, ни философ, ни историограф не могли бы поначалу проникнуть в крепость народных суждений, если бы великая поэзия не распахивала ворота.
Защита поэзии, 1580 [4] Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. С. 135, 136.
Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Мы пользуемся им так же естественно, как пьем или дышим. В глубине двадцатого века, в которой мы находимся, слово «пользоваться» становится все более безнравственным, если не преступным. Воздухом равно дышат люди бедные и богатые, разных убеждений, возрастов, национальностей и вероисповеданий. Бесплатность его никогда не обсуждалась до нашего времени. Но и воздух оказался не бесплатен в перспективе. Сознание современного человека трещит, осложненное теперь и экологическими проблемами. Но перестроиться все еще не может. Воздух, вода, земля… какой бесполезной вещью может оказаться однажды бриллиант!
Язык — тот же океан. Как бы ни были обширны и глубоки и тот и другой, в них очень трудно добавить хоть каплю, хоть слово. Всего этого столько, сколько есть. Но — не больше. Сказать новое слово так трудно, что в чрезвычайную заслугу это ставится недаром. Огромное число понятий в нашем мире не оказались достаточно важными, чтобы получить имя и войти в словарь. Хотя в самой жизни они, немые и безымянные, очерчивают собой сферы и сферочки достаточно отчетливые. Не названные одним словом, они могут быть определены лишь системой других слов. Даже статьи, даже целой книги может оказаться едва достаточно для определения нового понятия. Казалось бы, чрезвычайно неэкономно тратить много слов вместо введения нового, но одного знака, заменяющего, быть может, тонны бумаги. Однако пробиться в словарь — чрезвычайная честь, головокружительная карьера для нового понятия: словарь ревниво охраняет численность своего поголовья.
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)