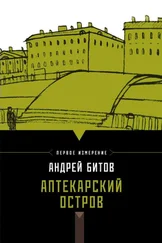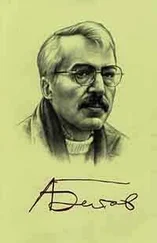Он не был окончателен в своей идее, даже не был настойчив, как армянские храмы, он не был назначен. Он был трогательно благороден и будто не притязал на вас. Строй, возникавший от зрения. его, был высоким, но не возвышенным. Человек, утомленный ложным пафосом, мог не обнаруживать внезапных сил для восприятия пафоса подлинного. Храм не был симметричным, он не был и специально асимметричным, дабы отличаться от цельности предшественников. Асимметрия эта тихо набегала, пока я шел кругом, и сказывалась лишь в не- подавлении психики, в участии к несовершенному мне — собственно, я и не заметил этого главного нарушения выверенных пропорций… просто, когда я обошел кругом, образ, вместо того чтобы утвердиться и впечататься, ровно отчалил и как бы испарился, и я не сразу заметил, что стал обходить храм вновь. Он словно не был закончен, как бы даже не был увенчан, ибо купол есть часть уже обязательно симметричная — поэтому купол был возведен как-то незаметно, неназойливо, легко, будто основными в этом храме были степы. Я, естественно, не ввязываюсь в данном случае в спор о куполах — именно этот храм был таким, как я попытался его описать, не разрушая сильными словами. Или — тогда он был таким, когда я на него смотрел.
Я не был готов к восприятию, ничего не ожидал — он мне ничего и не напоминал. Но все это вместе: эта погода, эти цвета, эта выключённость, эта немота и тишина, — они мне что-то определенно напоминали, однажды виденное или почувствованное, но совсем не в подобных обстоятельствах, по — что и когда?
Где-то я уже внимал такой немоте, где-то — я видел такое молчание, где-то я уже слышал такую тишину…
Воспоминание преследовало меня — это означает, что я его не мог вспомнить.
Очень странно, я искал это узнавание в своей жизни и не находил. Я помнил, что уже пережил это однажды, неузнанная тлела во мне искра опыта, но я не находил место ожога. Я не мог представить, конечно, что воспоминанием может оказаться и что-то не бывшее в жизни, но с особой силой воспринятое или с особой силой переданное (как не только чтение книги может оказаться событием в твоей жизни, не только твои в связи с этим переживания, но и то, что было в книге…). Не мог я представить, что слышал однажды точно такую тишину, точно такого содержания тишину… не в своей душе.
Нет, нельзя о молчании — словами! Я написал эти страницы за ночь, а замолчал на полгода. Как бритвой обрезало во мне эту возможность — низать слова. Мычание не выразит невыразимого, лишь обозначит. Невыразимое — само выразительно, как молчание. Эти полгода были глубже книги. Я писал ее — как рассчитывался с жизнью. Что ж, она сделала свое дело: я так ее и не кончил. Но снова свободен.
Попытался перечитать ее, неоконченную, так, будто меня нет, а она есть… Странное впечатление! Во-первых, она и впрямь будто писана не мною, и это меня в ней удовлетворяет. Я бы только то и вычеркнул, что написал в ней сам. Там, где я натыкался на себя, ощущал оскомину и стыд. По замыслу, даже по конструкции, эта книга — развалины храма, на возведение которого я потратил немало лет. Развалины, кажется, получились. Но это развалины так и не достроенного храма. Разобраться в этом — для читателя задача сродни археологической. Искать несуществующие обломки, разыскивать растасканные по соседним деревням камни прежде, чем догадаться: а был ли купол? Может, купола и не было… И все-таки! Покопавшись, довообразив, кто- нибудь дорисует его в чертеже реконструкции — с куполом, с тем самым, единственным, выраставшим из недовозведенных степ! Но его никогда не было, он никогда не с т о я л во времени… Но он был! Раз его реконструировали. Да, он был, и его не было. Потому что он есть. Он был ДО постройки. Его видели до меня и не брались; его, наконец, воочию видел я; увидит и еще кто-нибудь. Культура не пустует; пустует только время вне ее. А она — ЕСТЬ. Но никогда не станет она зримой из одной ностальгии. Ностальгия в лучшем случае возведет развалины как памятник единственному запечатленному в сознании образу. Нет, культура не возрождается; она — творится. Культура не может быть прервана, как не бывает прервана жизнь. Культура вечна и непрерывна, а мы ее либо знаем, либо нет.
Во что обратилось мое усилие — лубочный медведь держит в лапах лубок, на котором изображен медведь настоящий! Так ровно, так последовательно, мерно, не выбиваясь из реалий, клал я свою краску на каждую в отдельности картинку… чтобы, написав робкую дюжину арабесок, рассыпав этот пасьянс, обнаружить, что вместе, разложенные бок о бок, в невольной общей кар-тине, — они не под силу моему воображению.
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)