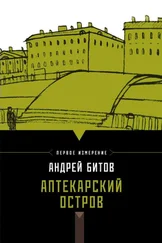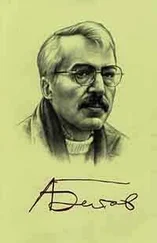Куда подевались эти лица? Никто никогда больше не взглянет настолько в аппарат, так прямо, всему радуясь, ничего не стесняясь. Надо же, чтобы неуклюжий треногий посланец прогресса мог так рассмешить молодую мать! Она совсем не испугалась, не дичилась, диким было только любопытство…
Однако мы уже поселились в этой гостиной; миновал час, еще полчаса. Хозяйка давно должна была бы войти в платье, не иначе как до полу, и переиграть всю эту желтую стопку сонатин и вальсов, проявив поразительную способность читать по нотам… Мое воображение зашло уже так далеко, что разговор со мной мог зайти только о Пушкине; мои друзья вздевали очи и говорили: «Пушкин, о!» — я должен был немедленно прочесть им вслух «Рыцаря бедного». Я взял томик — как раз эта страничка была вырвана. Но и это восхитило меня.
Потому что, с немалым удивлением и внезапностью, я осознал, что именно, ну, может быть, не совсем так, но именно в такоМ качестве околачивались в гостиных в те незабвенные времена и отнюдь не считали свое время потерянным, пока я извелся от одной мысли, что время зря идет, а я ничего не делаю. Хотя ничего не делал я, по сути, задолго до этого часа… А они не спеша про-вели лучшие годы в гостиных, именно те, кто исписал тома и вошел в школьную программу! Это они написали собрания сочинений, которые служат теперь образцом труда, это они написали бездну писем своим друзьям, а я, как солдат Иванов, строчки матери написать не могу… Это они вот так просидели свою жизнь, не считая ее пропущенной, и в жизни их случилось так мало лишне-го, что все запомнить и рассказать можно было, и оттого читаются в наш. век их биографии — как сказки.
Мне самому покажется, что я преувеличиваю, населяя собою девятнадцатый век, но, в подтверждение своего рода точности этих моих чувств, войдет наконец часа через два хозяйка, милейшим образом улыбаясь, но уж никак не извиняясь за то, что заставила нас ждать. Взгляд ее обласкает меня, представленного и шаркнувшего, отразится в зеркале, откуда совершенно тем же круглым и ясным взглядом выглянет ее бабушка или она сама, взгляд ее скользнет по нотам, переворошенным мною, упадет на альбом, и, подавив легкий вздох, Нана поцелуется с моими друзьями, и мы пройдем в столовую… Но — круглый стол, но скатерть, но живопись в раме, но сама рама!.. Все будет точно таким, как неразвращенная мечта, а именно тем, что и представля-лось в детстве под словом «стол», «чай», «варенье», словно его сварили Ларины за кулисами, — все не разойдется с таким представлением, а подтвердит его, и вы вспомните, как с самого начала должно было быть так, прежде чем вы забыли как, прежде чем стало не так.
Как в детстве, с удивляющей необратимостью мгновения катили в прошлое. Только что вы ждали, воображали, а это наступило, сбылось, а вот и прошло, как Новый год.
После такого ожидания мы ^же сели за круглый, тот самый стол. И опять не все сразу вам станет попятно: что после чего, что за чем следует. Напа сама испекла пирог (вот что ее держало все эти два часа), пирог у нее очень мило подгорел, это ей особенно сегодня шло, то, что он подгорел. Как блузка, как, прическа… Потому что пирог подгорел специально для вас, иначе бы его домработница пекла и он бы не подгорел; а уж если Нана взялась его почему-то сегодня печь, то это означает такую готовность, такое обещание! Почему-то именно этот уголь на зубах — гарантия неунывного счастья, бесконечного утра, розового, как пеньюар, как бесстыдносмущенная улыбка. Вы погружаетесь в эти бездны не- разоблачимого — кокетства, имеющего тот секрет, что обладательнице его все пойдет, все станет к лицу, даже, например, если бы пирог замечательно удался. И такое долгое ухаживание впереди…
Тут появляются, вовремя запоздав, жены моих друзей: щебет, поцелуи… школьные подруги, выравнивающие возраст прекрасной Наны, которая, становясь неожиданно старше своих лет, так замечательно сохранилась. Это начинает ей с подчеркнутой силой льстить, как тот же пирог. Словно ожидание вычло из ее лет тот срок, на который вы запоздали, и она застряла в каком- то одном вытянутом многолетнем дне, с тем чтобы вы пришли сюда завтра. Она обещает подругам продиктовать рецепт этого пирога…
Вот женщина! Во что я в ней поверю — то она мне и даст. Особая пластика — все движения не окончательны, каждое томит, обещает, содержа в себе тот конечный обман высокой воспитанности, когда вы до самого конца не будете знать, с чем столкнетесь, пока не пойдете на все ради утоления этого раскаленного любопытства. Но такое любопытство можно утолить один раз, а там станет трогательно ясно завершение, окончательность всех этих неокончательностей, этой плавности, по которой вы приплыли, ибо когда она будет истощена, то, — словно повторяя именно этот шевелящийся рисупок, чуть дышит фата — вы уже под венцом. И если займется костер, то это именно вы его разожгли, если он и не затлеет, то, значит, ради вас она пошла на все, на то даже, без чего обходится так же легко, как дышит. Ах, как вы будете растроганы этой холодной готовностью и покорностью, сочтя ее за чистоту или застенчивость… И вдруг вспомните хруст угля на зубах.
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)