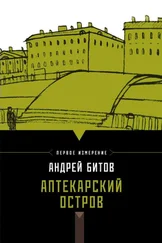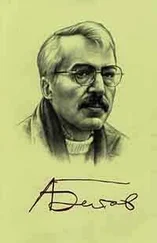Хорошо было бы проверить и еще одну точку, хоть сам я этого не успел. Надо перейти на левый высокий берег, подняться на утес к монастырю, повисшему над рекой, встать возле недавно воздвигнутой под ним лошади, па которой, с мечом же, простирает руку очередной, еще более древний, чем прежде, основатель города, и глянуть вниз на — место, где наконец-то снесли злока-чественные трущобы, где будет сквер и пионерский бассейн. Это будет вид на город, в котором поместится все, кроме лошади, — я такого не видел. Я бродил, там, внизу, по снесенному курятнику, по свалке кирпича, тряпья и консервных банок, отшвыривая носком своего ботинка другой стоптанный ботинок, бродил, как выразились бы археологи, по современному культурному слою и слушал рассказ о том, какие тут еще недавно уживались языки, ремесла и народы, в этом местном вавилончике. Какой здесь был небывалый и ни с чем не сравнимый водоворотец языка — филологический цветок, клубок наречий, неповторимый, невосстановимый. Диалект жив, пока на нем говорят. На нем говорят, пока есть с кем, пока — вместе. Теперь этого языка уже нет, он расселен с удобствами. Странно было представлять себе это: сносимый бульдозерами пласт человеческой речи, соскобленный языковой слой. Я не поднимался на уровень лошади, зато ее я хорошо видел: спотыкаясь на этой свалке, где город будет и саду цвесть, оглядываясь, я все видел занесенным над собой ее победное копыто. Эта кобыла уникальна по архитектурному тщеславию: для того чтобы она* соседствовала с украшением, господствовавшим веками над городом, потребовалось «подровнять» (подорвать) утес, на котором стоял монастырь, потому что места для лошади на отвесной линии не было. Но тот, кто, столь на зависть скульптору, выбрал именно это место, видел именно эту линию утеса и из нее вырастил вверх свое сооружение, как прививают культурную ветвь к дичку. И она прижилась. Вот этой-то суммарной линии монастыря и утеса вы больше никогда не увидите: там стоит лошадь, причем стоит нарочито на луче взгляда, так, что всегда постарается заслонить храм своим тяжким крупом от вашего взгляда снизу вверх.
В эту цельную глыбу города, в это живое тело вогнано три точных клина, как в старинной рабьей каменоломне. Трещины эти ширятся по ночам. Скоро уже, скоро город развалится на три части, треснет на дольки, а каждую дольку уже не трудно будет быстро раздробить мелкими клинышками.
Все это благоразумно и целесообразно, хотя иногда и, как кобыла, неэкономно. Но что-то неразумно ноет в душе: дайте дожить! Живое же… пусть живет. Скоро, скоро умрет само.
Есть в этом городе, есть и в людях вот что: он живет, а не выживает, они как бы не упорны. Выжить можно лишь в новом качестве, а прежнее качество — это ваша душа, а другой у вас нет. Верность обрекается на умирание, измена — на жизнь. И раз люди иначе жить не могут — они исчезнут, они не выстоят внутри поменявшихся значений, ибо не захотят их поменять. Может показаться: по лености, по нежизнестойкости. Но какая же это стойкость: вымереть таким, каким ты рожден!
Они кичатся перед соседями, трагически распыленными по миру, но всюду выживающими, что у них нет эмиграции, что они нигде больше жить не могут. Они нигде жить не могут, но и здесь их становится все меньше. Ибо то, что пе захочет себе изменить, вымрет. Поголубеет кровь, и не свернется, и вытечет по капле из легких царапинок, почти случайно нанесенных…
Кто мне объяснит, куда подевались все этажерки? Какому объяснению я поверю?.. Если даже от блокады у нас в доме уцелела бамбуковая этажерка, по-видимому, потому, что всем было очевидно, что тепла она даст, вспыхнув и тут же прогорев, не больше, чем спичка… если она даже блокаду пережила, то куда потом подевался ее бесплотный желтый скелетик, оставив во мне па всю жизнь свое поскрипывание и шаткость, когда я вытирал с нее порученную мне пыль?.. Кому однажды надоело эту пыль вытирать, кто не вытерпел, что на нее нечего положить, и что же. все-таки клали па этажерки в то этажерочпое время? И если никого не удивляла необходимость вытирать с нее пыль в течение десятков лет, то на какое утро вдруг это стало так раздражать? В какой миг мы сообразили, что если бы ее всю жизнь не вытирать да перемножить время вытирания на число тряпок, то получится сервант? Куда мы так заспешили, что стали, чертыхаясь на бегу, зацеплять карманами за ее нелепые полочки и палочки? Когда будильники наши нервно затикали, отменив мерный ход почти неподвижного маятника, не торопившего стрелки? Когда я заменил визиты на письма, письма на открытки, открытки на телефонные звонки, а телефон отключил? И почему сейчас я с умилением вспоминаю эту глупую этажерку, когда даже мне очевидно, что этажерка на самом деле необычайно неудобная, нелепая, никчемная вещь, не только утратившая, но и не имевшая назначения?.. Что за слезы на свалке?! Не унывай, не стоит.
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)