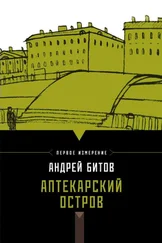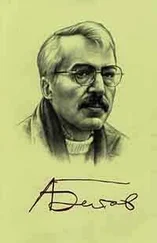Допустим, слон. Но в него еще не веришь. Впрочем, в него вообще трудно поверить. Но — так. Слон и слон. Смотришь больше на прислужника, что сидит тут же: то ли следит, чтобы слону не давали совсем уж несъедобную дрянь, то ли просто для сравнения. Созерцать слоновьего служителя поучительно: он видит меж ног своего большого друга те самые башенные часы, стрел-ки которых неумолимо, но слишком медленно приближаются к маленькой…
Слон все понял, чтобы не сойти с ума, — слон служит так же, как и служитель. Вы проходите дальше, не вполне уместив его в своем сознании.
Вы попадаете в копытно-рогатое отделение: бесцвет- но-свалявшиеся неправдоподобия коров… Тут и северные олени, клетку которых вы минуете особенно быстро: почему-то именно этот олень — для вас не новость. Потом немножко гну и какая-нибудь лама. Так и не вылезший из темноты своей комнаты, скажем, зубр. Вы быстро оставите этот унылый хлев, почти не отметив в мозгу неожиданную неимпозаптность оленей и косуль, так и не передвинув свое сознание в саванны и сельвы.
Тут будет лужа с чем-то жалким, приснившимся, но не ужасным — гиппопотамий бок. Будет плавать расползшаяся булка — вы так и не дождетесь от него жизни.
Удивитесь тапиру, гладенькому, новенькому — синтетическому. Девочка скажет: «Сразу видно, американский…» Обыватель прочтет табличку беременной жене: «Промыслового значения не имеет… Ага, значит, только показательное…» Жена посмотрит невидящими, крутыми, как яйца, глазами — увидит свой живот, еще одно доказательство шарообразности земли. Что это за манера такая — непременно водить беременных жен в зоопарк? Не замечали?
Птиц слишком много, чтобы в них разобраться. Они какие-то черненькие, и, по виду, все питаются падалью. На самом верху грифельное чучело. В этой связи вы внимательно рассмотрите воробья. Это безусловно потрясающая птичка. Она — на свободе.
Воробей — царь зверей.
Обезьяны закрыты на ремонт… Отдельно показан шимпанзе. Он печален: ему предстоит человечество… Своим торможением он, в который раз, поражает пас, что он — человек. Поковыряет — посмотрит, почешет — посмотрит. Удивится рукам: пичего-то в них, оказывается, нет. Пусто. Отсутствие.
Вы сделаетесь безотчетно печальны, скучны. Фальшивое желание оживиться с помощью своего ребенка, взглянуть на все глазами картинок — останется тоже бесплодным. Они просто внимательны, дети. У них глаза на границе испуга. Причем испуга не перед страш- ностью зверя: какой же он, бедняга, страшный? в клетке? — а перед самой жизнью. Они, дети— до, вы — после. Вы не сможете разделить трапезу их зрения. За- трапезность?..
Тут, опять надо прибавить, — солнце. Город так отвык от него, так давно обесцветился. Цвета здесь обозначаются только при сером свете. Как кожа слепого… Ничто не освещено: солнечный объем — сам по себе, втиснут между предметами, их не касаясь, не задевая, не прилипая к ним. Так и звери — без цвета или цвета хаки, земли и весны. Мусор фанеры, заборов и шкур. Свет застиг все врасплох, ничто пе успело окраситься, растерялось, освещенное и ослепленное, и прикрыться нечем.
Голубой купол над свалкой.
JIoKa не попадете к хищникам. Только хищники имеют цвет. Только они, собственно, и звери. Во всяком случае, по зрительскому успеху — это именно так. Тут уже толпа, живость, разговор — непосредственность. Именно чрезвычайная непосредственность видна на лицах обывателей, как от несчастного случая или чужих похорон.
Пора от «вы» перейти к «я».
«МЕДВЕДЬ», — было написано на клетке. Значит, именно медведь это и был. Я встретил его взгляд.
И сразу будто все виденные мною здесь звери посмотрели на меня — это было достаточно странно: одно и то же существо может по-разному взглянуть на вас, но представить себе, что одним и тем же взглядом на вас, в разное время, посмотрят существа, столь многочисленные и отличные друг от друга, может означать лишь одно: либо вы безумны, либо все они. Оловянное безумие полуденно стояло в глазах медведя. Не ужас и не ярость, не страх и не свирепость, не тоска — сумасшед- шесть… Это был с ума сошедший медведь, и он ел и ел конфеты, прямо так, не разворачивая бумажек, равнодушный и к зрителям, и к себе, и к самим конфетам. Он скучно и безотказно ловил конфету, если она удобно подлетала к пасти, если же неудобно — не ловил. Тогда конфета стукалась об пего, как об неживого, и падала… И так он сидел в кругу из конфет, и конфет было столько, что он давно уже так сидел, не переступая.
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)