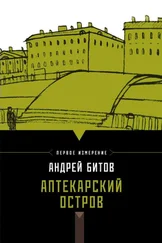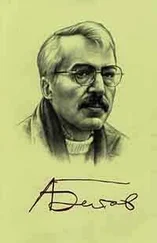Застучал молоток. Гроб завели, подвели полотенцами… И тут вдруг у Лаврика выросли руки — это было изумительно! ловким ласковым движением выдернул он полотенце. И даже «Мир праху» сказал, и «Земля пухом», и «Спи спокойно».
Спокойная, здоровая, живая ненависть кипела в душе Монахова. Он видел зло. Он не ведал сомнения. Он понимал, что за свои грехи он вполне готов ответить. Но — вот этого — не простит никогда. Вчерашняя идиллия мертвецов, похожих на свои памятники, разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни перспективой, ни угрозой. То, к чему мы пришли, было фактом.
«Умерла…» — подумал он.
ВЫБОР НАТУРЫ
(Грузинский альбом)
Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.
Лермонтов
Пытаясь доказать, что что-то является чем-то, ты теряешь это всецело.
Сюжет обладает той особенностью, что должен оказаться исчерпанным. Вступив в него, другим лабиринтом не выйдешь. Стоит сделать что-либо один раз, как ты уже приобрел опыт; стоит приобрести опыт, как он тут же окажется неупотребимым, зато тебя призовут если не в специалисты, то в свидетели: «Иванов умер на ваших глазах? Так вот Сидорову нехорошо». В этом смысле специализироваться — это подчиниться первому случаю: стоит сказать «раз», потребуется считать до трех.
Стоит решиться — само пойдет в руки…
Стоило однажды восхититься новым грузинским кино, стоило попытаться разобраться в истоках такого успеха, хотя бы на одном примере, — как стало слишком мало, как почти все осталось за бортом… Пришлось начать снова, чтобы проверить и убедиться, что ты был прав.
Повод удостовериться представился мне внезапно и сам собою… Я воспользовался заманчивым предложением отправиться в Грузию «выбирать натуру». Нет более счастливого времени в «съемочном периоде», чем выбор натуры! Волнения запуска в производство — позади, горечь поражения впереди. Ты пользуешься правами человека, от которого всего можно ожидать. Впереди — одни перспективы, как вид, разворачивающийся из окна «газика». Лобовое стекло — кадр. (На каком замечательном фоне разворачивается иной кинофарс — память о том, с каким высоким чувством было начато…)
«Ты увидишь Грузию такою, как она у меня здесь!» — постучит друг себе в грудь, соблазняя меня поехать. Значит, он предлагает заглянуть ему в сердце — это уж слишком… Уговорил, уговорил.
Изволь, я еду.
Оправдывать случайность этих замет можно не только тем, что они были утрачены (впрочем, вместе с чемоданом…), не только тем, что они к тому же еще и не написаны, по и тем, что они не могли быть написаны. Вот эти воспоминания…
…Я был готов расстаться с жизнью. Причина уже не была мне важна. Невыносимость ее была еще жизнью, и тогда я был не готов. Теперь и невыносимости не стало. Ничто не казалось мне. Из всех тридцати трех, исключив разве младенчество, — время просыпалось у меня меж пальцев, и вот что осталось на ладони… Песчинки эти молчали. Я пытался расковырять эти сгустки молчания — полагал это задачей. Возможно, такой поединок даже нравился мне, и именно своею обречен-ностью. Из всех функций слова меня увлекало — проникновение. Я полагал, что возможно и не вернуться. Я возвращался из этих теснин. Ободранным, но не вошедшим. Ибо сильнее страха смерти (его, мне казалось, у меня уже не было), сильнее жажды истины (она, мне казалось, у меня была) оказывался во мне страх замолчать. Нет, вовсе я не хотел постигнуть! Я не хотел умирать.
В Грузии я писал о России, в России — о Грузии… Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигпахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове. Времена года и места действия и описания складывались и перепутывались в моем мозгу, упразд-няя реальность… Костромская деревня Голузино или подмосковное Голицыпо — почему в них должны были накатывать па мепя тбилисские видения, чтобы, оказавшись наконец в Тбилиси, писать о ленинградском зоопарке? Не знаю. Но по той же причине в легендарной Вардзии я мечтал о птицах Куршской косы…
Империя путешественника — другая планета. Разное солнце освещает метрополию и провинцию. Двойное солнце слепило меня и оттуда, и отсюда; я отбрасывал две тени. И когда я смаргивал наконец-то эту слепоту и тлен, то. — подчинялся. Счастье соответствия владело мною секунду, пока я, отрешась, предавался чужому чувству родины. Лазутчик и захватчик! Я хотел импортировать домой то, что у них оставалось: принадлежность себе. Не тут-то было! только оттуда мог я увидеть свой дом, только оттуда — в нем себя ощутить. Дома я начинал тосковать по утрате этого чувства. Воистину, только в России можно ощутить ностальгию, не покидая ее. Великое преимущество!
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)