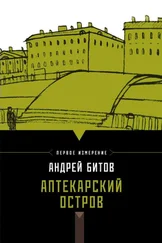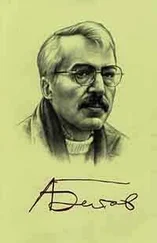— Ясно, не просто… — усмехался сын.
— Так вот, — пропуская иронию мимо, продолжал отец. — Они все корнями связаны, перепутаны и представляют единую систему. Именно — систему.
— Ну и что? — сказал сын.
— Вот, например, дерево умирает, умирает, а как умрет — на следующий день сухое стоит. Загадка, думают ученые. А оказывается, как только одно умрет — лес сразу же из него все соки в свою систему забирает. Потому и сухое сразу же… Вот и выходит, — сказал отец, прослушав молчание сына, — лес — это не много деревьев, а коллектив, общество, и каждое дерево — не само по себе, а только вместе со всеми, и во всех нуждается…
— Обязательно надо человеку свое всему на свете навязать… — > процедил сын и откинулся навзничь на мамину подушку и глаза для убедительности прикрыл — устал от человечества.
Так он спал и ел., ел и спал, и к концу дня так успокоился, что ему показалось, что прошло несколько дней, а не один, что он тут давно, вроде и не уезжал… А состарился со стариками вместе в один день на три их года.
Поэтому утром, с юным аппетитом сглотав мамин завтрак (там, у себя, он столько и в обед не съедал), чмокнув маму в лоб, усмехнувшись для нее на спящего отца, он с какой-то даже радостью вырвался на улицу, как на свободу, и устремился готовно и азартно по столь неприятным и неинтересным (как ему казалось в столице) командировочным своим делам.
2
— Теперь направо, а потом снова немножко направо…
— Как улица-то называется? — недовольно сказал таксист.
— Вот именно, что не знаю, — возбудившись, говорил Монахов. — Показать могу.
Они еще немного поколесили, пока Монахов вспоминал родителей с непонятной, все возрастающей тоской. Размеры предательства Монахова все росли: господи! матери каждый лишний час с ним дорог и нужен как последний — а он вот катит вместо неотложного аэродрома неведомо куда!.. Как на крючке. Пока сомневался, пока думал, что вряд ли эта затея удастся, — ловкое, хитрое, шаткое выстроил сооружение, прямо шпионаж: жене позвонил, что не уверен, но, может, дня на два задержится: «Ты меня не встречай»; матери — что обидно, но, кажется, его срочно отзовут дня на два раньше: «Ты меня не провожай»; а е й, ради чего все, — что очень-очень вряд ли, но постарается, может, на денек и получится задержаться, но на день ее рождения он все равно остаться не сможет — какая разница, если они и отметят его на день раньше, вдвоем? От одного, даже мимолетного, приближения представления, какую же он раскинул паутину, делалось головокружительно пусто, и тогда, как ни странно, он плел ее с большей энергией и окончательностью, будто наконец и решился — упрочал оба варианта: и что, пожалуй, он вынужден скорее уехать, и что, наверно, ему удастся задержаться. Щель между двумя возможностями становилась все отчетливей, зияла. Чем больше он сомневался, чем более был уверен, что не стоит, тем скорее, где-то вдали, уже за спиной, знал, что все так и будет, вопреки.
Так что лишь в самый последний момент, быть может, уже сидя в такси, а шофер спросил: «Аэропорт?» — именно в этот момент он и прыгнул через эту щель и оказался на том краю, когда решительно назвал ему ехать в противоположную сторону. Как всякий слабый человек, был он смел как раз в опрометчивых поступках, в них не отступал, боясь прослыть именно тогда, когда любой решительный как раз бы и передумал и отказался с легкостью. Вот что он забывал, Монахов: что никто его в эти ответственные моменты не наблюдал, — никто сверху не свешивался, приложив ладонь козырьком: а что это наш Монахов, струсит или нет? Того не понимал он, что если уж стоит вопрос о трусости, то оба решения выйдут не от смелости — смелости требует лишь третий путь, о нем-то никогда не вспомнят, а выбор — любой труслив. Смелее уж — как получится. Оттого нерешительность — всегда до последнего момента, чтобы прыжок этот выглядел как бы помимовольным, подделанным под судьбу.
Сейчас он и под автоматом не сказал бы шоферу: «Поворачивай назад». Лишь раскаяние, вспухание вины, тень возмездия, неясного по форме, но именно за вот это, за сейчас, то есть именно страх владел им. И он бы его не показал. (Все-таки в тот момент, когда мы что-либо себе позволяем, мы прекрасно знаем, что нам за это будет, что мы не уйдем, не увернемся, и лишь когда нам воздается, мы забываем напрочь, чтобы сказать: за что?) Раскаяние набухало — тут и встали перед ним лица стариков, как живые…
На отца как следует не посмотрел, не попрощался… Кожа на дне седой щетины, более ее белая, встала перед его мысленным взором крупно: как речной ил между осоками… Почему-то именно берег реки, удочка, пасмурно, отец рыбу ловил — такая сплошная ровность беловатого ила между стеблями седых осок… Монахов сморгнул вид этого озера. Теперь на него смотрел ма-тушкин взгляд, девичий от укоризны… Как это можно делать перед собою вид, что другие- ничего не видят, не думают, не замечают, раз вида не подают? Как раз они все и знают, когда вида не подают. Что ж она, и на свете не жила, матушка? Он разве- не ее сын, не е г о? Отца-то он знает, видит. Может, за то и мужа не любят, чтобы сына продолжать любить?..
Читать дальше
![Андрей Битов Жизнь в ветреную погоду [Сборник] обложка книги](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-cover.webp)