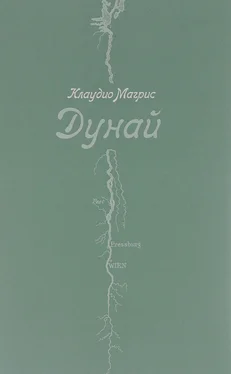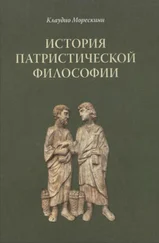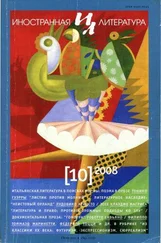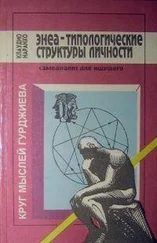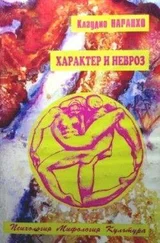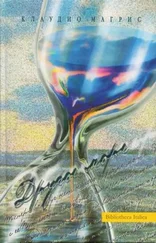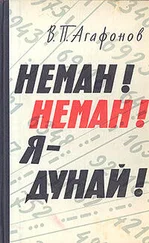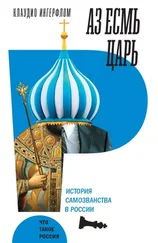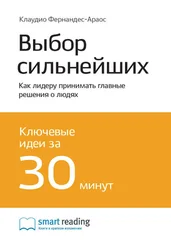С Махалой, то есть пригородом Бухареста, связаны бесконечные интриги, похождения, заварушки и плутовские истории, изложенные в комедиях классика румынского театра Иона Луки Караджале. В конце столетия в здешних окраинных кафе Караджале наблюдал судьбы и пародии на судьбы, печаль и попытки сговориться с судьбой, отражавшие смутный, бурный рост новой Румынии, недавно ставшей единым государством, ее общественных классов, прежде всего ненасытного, потешного правящего класса. Караджале был не только поэтом, описавшим этот мир, но и его частью: плодовитый автор комедий, рассказов и зарисовок работал журналистом, суфлером, корректором, выпускал журналы (например, в 1893 году журнал «Румынский вздор»), открывал привокзальные пивные и рестораны, которые регулярно разорялись.
Его смешные и живые комедии — совершенный механизм ничто: водевиль, внезапно срабатывающий и бесследно растворяющий лишенные содержания общество и жизнь. Если Караджале — румынский Лабиш, нельзя не признать, что Ионеско вышел из его школы. Французско-румынский писатель принадлежит к литературе авангарда, которая (особенно дадаизм), по мнению многих критиков, прежде чем появиться на свет на Западе, провела утробный период в Румынии: Тцара, Урмуз, стремившийся к самоуничтожению языкового субъекта и символически покончивший с собой, Вирджил Теодореску, писавший на изобретенном им «леопардовом» языке: «Sobroe Algoa Dooy Fourod Woo Oon Toe Negaru…»
Хотя его миром была Франция, Ионеско связан корням с румынской, дадаистской почвой, он черпает из нее любовь к всеохватной пародии, которая делает его шутки живыми и которая читается на его метафизической физиономии клоуна, Бастера Китона, на лице, ставшем его главным шедевром. Караджале наверняка был куда более тонким, чем Ионеско, мастером нонсенса и абсурда, потому что Ионеско, чтобы показать торжественную пустоту существования и общественных заповедей, нередко приходится подчеркивать их нереальность, причем он делает это с поучительной наглядностью, как те, кто берутся растолковывать смысл анекдота, даже когда их об этом не просят.
Караджале не нужно искажать действительность, открыто ее высмеивать, чтобы показать ее лживость и пустоту; ему достаточно показать ее такой, какая она есть, привести затертые слова, которые произносят, чтобы раскрыть пустоту — тем более пугающую, чем она привычнее. Его герои не произносят абсурдных речей, они говорят совершенно разумными и оттого еще более абсурдными фразами; его герои — верный портрет, а не карикатура на мыльный пузырь, который представляем из себя все мы.
Конечно, несмотря на стандартную механику абсурда, не позволяющую ему достичь истинного величия, Ионеско куда более крупный писатель, чем Караджале, потому что Ионеско дарит голос страху смерти и тьме существования, которое тщетно, но упорно стремится к вечности. Его самый едкий сарказм направлен в первую очередь против паразитов абсурда, против многословных высокомерных теоретиков парадоксальных хитросплетений и модных находок. Буржуазное ханжество семейства Смит в «Лысой певице», члены которого говорят газетными штампами и банальным фразами, ничем не отличается от ханжества передовых интеллектуалов, которые высмеивают буржуа, заявляя, что настоящая искренность заключается в неясной двойной игре, и утверждая, что «длится лишь эфемерное».
Храня верность себе, авангард сметает карусель авангардистских новшеств, давно ставших предсказуемыми и повторяющимися. Бартоломеусу I (одному из хозяев литературы, диктующих законы бедному автору в «Экспромте Альмы») не нравится слово «творец». Как и полагается достойному представителю экспериментального благомыслия, то бишь риторики, он предпочитает слово «механизм». Кто знает, помнил ли Ионеско, когда он размышлял об этом герое и о его прототипах, лапидарное заявление Михая Космы: «Littérature: le meilleur papeier hygienique du siècle» [112] «Литература: лучшая туалетная бумага столетия» (фр.).
.
Сегодня румынская культура бережно и не без симпатии распоряжается наследием выдающейся национальной традиции авангарда: еще в 1964 году здесь поставили «Носорога» Ионеско — писателя, известного яростным, физиологическим неприятием коммунизма. Впрочем, когда в конце 1940-х годов во имя вульгарного марксистского псевдоклассицизма режим поднял руку на писателей, подозревавшихся в нигилистическом «разложении поэзии», с трудностями столкнулся даже выдающийся поэт-революционер Тудор Аргези. Отчасти как провокация, отчасти как осторожное желание отречься от дьявола, звучит название выпущенного в 1945 году поэтического сборника Нины Кассиан «Я был поэтом-декадентом». Но даже такому поэту, как Марин Сореску, создавшему в 1968 году «Иону», не удалось дать достойный ответ пьесе Ионеско «Король умирает» и тем паче куда более великому произведению — «В ожидании Годо» Бекетта.
Читать дальше