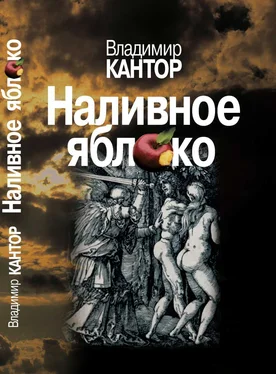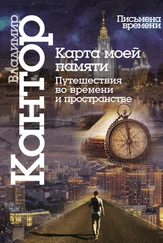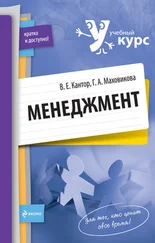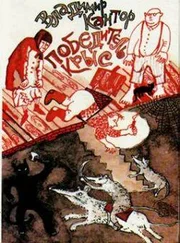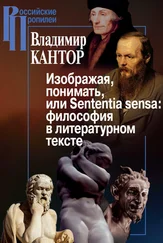Последнее время к отцу стал ходить в гости лохматый неряшливый поэт с женским именем. Он вернулся в Москву из карагандинской ссылки, жил по друзьям. Ленина он называл «марксистом-любителем», Сталина — вурдалаком, рассказывал смешную, но отчасти безумную историю, как в Караганде, в день похорон «Главного Людоеда», когда шли плачущие толпы, один ссыльный бросился навстречу знакомой с криком: «Анна Петровна! Наконец-то! Дожили! Издох, собака! Поздравля-аю!» И как потом они бежали проходными дворами, спасаясь от рассвирепевших обывателей. Этот зековский язычок, зековское меланхолическое остроумие были мне в диковинку, хотелось подражать такому стилю речи, но не получалось. Во всяком случае, небритый поэт стал для меня авторитетом. Он поначалу заинтересовался бабушкиным радиоприемником, спросил у отца дрогнувшим, но слегка притушенным голосом: «Ловит?..» Отец отрицательно помотал головой, пожал плечами. Поэт, разумеется, попробовал сам покрутить ручки настройки, но ничего кроме все того же писка, треска, хрипа и шуршанья не нашел, если не считать голосов иностранных дикторов. Но чуждой речи поэт не понимал, поэтому досадливо отошел от приемника, буркнув: «Глушат, сволочи».
А то, что слушала на испанском и французском бабушка, она все равно никому не рассказывала. Учитывая же ее любовь к нравоучениям и пересказам газетных статей, я умозаключил, что ничего для себя (а стало быть, и для нас) она из этих иностранных радиопередач не извлекала. Да и какие там могли быть новые факты, которые не сообщались бы по нашему громкоговорителю!
Вот почему я в конце концов, после долгих просьб, отдал вчера утром радиоприемник Алёшке Всесвятскому — на радиодетали. Он собирал свой, хотел выйти на связь с таким же, как он, радиолюбителем из соседнего района. А деталей у него не хватало, купить же было негде. Жил он этажом выше и почти каждый день забегал ко мне поклянчить испанскую игрушку.
— Все равно твоей бабке он не нужен. Чего там на этих иносранных языках честного услышишь! Отец твой его не крутит, он и так умный. А мне для дела.
Для дела — это был весьма сильный аргумент. Так нас учили в школе, так говорили родители, так каждый момент внушали мне бабушка и громкоговоритель, что нет на свете ничего важнее дела, что ради дела можно пренебречь буржуазно-интеллигентскими условностями, уж тем более не обратить внимания на свою собственность, ибо собственность — вообще нечто плохое.
— Неужели другу жалко для дела? — снова и снова спрашивал меня Алёшка.
Был он стройный, худощавый, с большими синими глазами, и себе на уме: прямо вьюном вился. Хотел надуть меня. Это понял я уже потом, лежа в постели, глядя в стенку и перемалывая и мыслях все, что я натворил.
Хотя вроде ничего особенного.
Алёшка вчера утром прямо обманул меня, сказав:
— Дай мне не надолго, я только посмотрю, как он устроен.
Я отдал, хотя и чувствовал, что отдаю — для дела, для его дела. И правда: уже к вечеру Алёшка зашел ко мне и признался, что разобрал приемник до последней лампочки, что многое ему из деталей может пригодиться, но он все равно готов все вернуть, только вот заново собрать у него не получается.
Я, конечно, мог бы сказать: «Все равно приноси. Я сам соберу». Или: «Приноси. Отец соберет». Но было ясно (и Алёшка это прекрасно знал), что ни отец, ни я собрать приемник не в состоянии. «Руки не тем концом приделаны», — так оправдывала мама папину и мою хозяйственно-техническую неприспособленность. Я растерялся, а Алёшка, торжествуя, удалился к себе. Понятно было также, что ни бабушка, ни отец не пойдут к нему с требованием вернуть — слишком интеллигентны. Так что приемник останется у него.
Мое счастье, что вчера бабушка долго беседовала с кем-то по телефону и отправилась в папин кабинет, где стоял приемник, видимо, уже после того, как я улегся спать. Вечером таким образом я избежал неприятных нареканий. Но тем острее ощутил утром непоправимость содеянного. И час расплаты приближался. Не скажешь ведь, что Алёшка виноват: во-первых, сам отдал, а во-вторых, валить на друга — неприлично.
Я прислушался. В кухне шел разговор. Говорили обо мне. Говорила бабушка — как всегда правильные слова, которыми она словно бы защищалась от всех моих, папиных и маминых неправильностей и необдуманных поступков. Да и от всей остальной жизни, которая не была такой правильной, как ей хотелось бы.
— В конце концов он уже взрослый человек. Двенадцать лет — это совсем не мало. И должен сам отвечать за свои поступки, — голос бабушки Лиды звучал жестко, прямо-таки дышал непреклонностью. Я так и видел мысленно ее прямую спину и вскинутую вверх голову.
Читать дальше