Марджери показалось, что на голову ей разом посыпалось множество разных тяжелых предметов. Она изо всех сил старалась снова не отключиться, не потерять сознание и вообще остаться в здравом уме. Потом тихо спросила:
– Инид, вы что, были беременны?
Инид молча кивнула, глядя не на Марджери, а в потолок.
– И срок был большой?
– Да вам-то какая разница?
– Ну, я не знаю, Инид… Я просто не знаю… – Марджери вспомнила вдруг те миниатюрные вещички, которые Инид постоянно вязала, и то, как она порой гладила свой живот с выражением осторожного восторга. Затем она попыталась выудить из своей памяти все, что ей было известно о муже Инид, Персе, но оказалось, что о нем она практически ничего не знает.
– Я не была уверена, – сказала наконец Инид. – Я не притворялась, ничего такого. Просто думала, что ребенок родится, наверное, только где-то в мае.
– В мае! Почему же вы мне-то ничего не сказали?!
– Но ведь тогда вы бы меня на работу точно не взяли.
– Конечно, не взяла бы. Экспедиция рассчитана на пять месяцев. Мы, возможно, и домой-то вовремя вернуться не успели бы. И потом, как бы вы стали лазить по горам, будучи беременной?
– Ну, теперь-то эта проблема отпала, не так ли? – сказала Инид дрогнувшим голосом.
– А кто-нибудь еще об этом знал?
– Что, простите?
– О ребенке, Инид. Еще кто-нибудь знал, что у вас будет ребенок?
– Нет.
– Даже ваш муж?
Инид застонала, и сперва Марджери показалось, что этот стон вызван раздражением и нетерпением, тем, что она не видит очевидного, которое само на нее смотрит. Но когда Инид к ней повернулась, оказалось, что из глаз у нее ручьем льются слезы.
– Я их всех потеряла. Я беременела и каждый раз теряла ребенка. Каждый раз! Хотите знать, сколько раз это было? Один, два, три… – Загибая пальцы, Инид качала собственную руку так, словно это было ее крохотное дитя, и, досчитав до десяти, замолчала. А потом, обливаясь слезами, выкрикнула: – Я просто хочу ребенка! Это единственное, чего я действительно хочу. Ребенка! И я так надеялась, что на этот раз все будет иначе.
– Инид, простите меня! Простите! Я ведь ничем вам не помогла! Но я так испугалась… Я очень боюсь… – Марджери даже не сразу сумела выговорить слово «кровь». – Я действительно очень боюсь крови.
Инид саркастически хмыкнула – во рту у нее словно что-то взорвалось – и сказала:
– Ну, просто класс! Особенно если учесть, что вы женщина.
– Да, я понимаю…
– И все-таки, Мардж, вы ведь даже не попытались мне помочь. Конечно, я всего лишь ваша ассистентка, но я ведь не ваша горничная, а вы не королева Виктория и даже не какая-нибудь герцогиня. И ваша жалкая одежда ничуть не лучше моей.
Марджери совсем повесила голову. Она чувствовала, что ее как бы призывают отдать некую часть себя, но для нее это было слишком – она никогда так много не отдавала другому человеку; она вообще чувствовала себя чрезвычайно неуютно в этой ситуации. И больше всего, если честно, ей сейчас хотелось присесть, вот только единственный стул был занят выстиранным платьем Инид. Вместо этого она затаилась, надеясь, что Инид со временем успокоится и придет в себя. Потом, правда, спросила, не хочет ли Инид чаю.
Но Инид ее, похоже, не слышала. Она вслух разговаривала с каким-то заинтересовавшим ее пятном на потолке:
– Мне бы следовало догадаться, что я и этого ребенка потеряю. Меня ведь даже ни разу не тошнило. А это плохой знак. Когда тебя тошнит, это означает, что твой ребенок здоров. – И она засмеялась каким-то убийственно горьким смехом. – Ну что ж, видимо, теперь для меня все кончено. И у меня никогда уже детей не будет.
* * *
На похоронах матери Марджери не плакала. Ей тогда было всего семнадцать. И тетки сказали ей, чтобы она хоть на людях не притворялась, будто ей все равно. Только она не притворялась: она и тайком, наедине с собой, тоже не плакала. Она видела, как гроб опустили в могилу, потом взяла комок земли и, подражая теткам, бросила его вниз, на гроб, но ей это показалось довольно нелепым – все равно что какую-то нору грязью залеплять. В этом не было ни малейшего смысла. Потом до нее донеслось странное сопение, словно душат, схватив за шею, маленького зверька, и она обернулась, с изумлением обнаружив, что эти звуки исходят от Барбары. Барбара не закрывала лицо черной вуалью, как это сделали тетушки Марджери, и всем было видно, какой у нее красный нос, как сильно у нее опухли глаза и лицо – казалось, она с размаху врезалась им в стену. Потом, спустя какое-то время после похорон, Марджери не раз стояла перед зеркалом, кривя рот, как тогда Барбара, и пыталась заплакать, но у нее по-прежнему ничего не получалось. Она понимала, что скучает по матери, что любит ее, но ей казалось, что тоска по матери находится как бы в одном месте, а она, сама Марджери, – в другом, и соединить их никак невозможно.
Читать дальше
![Рейчел Джойс Золотой жук мисс Бенсон [litres] обложка книги](/books/433353/rejchel-dzhojs-zolotoj-zhuk-miss-benson-litres-cover.webp)



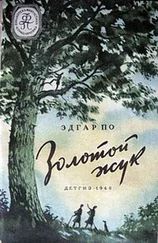



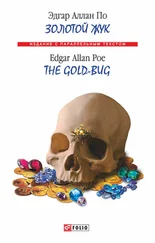
![Джойс Оутс - Опасности путешествий во времени [litres]](/books/401695/dzhojs-outs-opasnosti-puteshestvij-vo-vremeni-litre-thumb.webp)

