— Ага, что я говорил?
Торжествовать, однако, было рано. Предположения Комского о характере дискуссии в языковедении были к истине ближе. Профессор рассказывал, что эта дискуссия была чрезвычайно шумной в том смысле, что статья «Марксизм и языкознание» читалась на собраниях рабочих и служащих, студентов и школяров-старшеклассников, много раз повторялась по радио, штудировалась в специально организованных многочисленных кружках. И уж, конечно, она, как откровение, изучалась на кафедрах языковедения. Апологеты яфетической школы отреклись от ее учения сразу и почти безо всякого сопротивления. В том числе и он, бывший завкафедрой, а ныне заключенный номер Е-931. Подавляющее большинство советских языковедов исповедовали марровскую веру в единство процесса образования всех языков мира потому, что эта вера была до поры официальной. Попробуй, не прими ее в двадцатые годы, когда решительность в ломке установившихся воззрений считалась главным признаком революционности!
Раскаявшегося марровца вроде бы простили и даже оставили в прежней должности. И все бы, вероятно, сошло благополучно, если бы однажды черт не дернул профессора за язык. Просматривая только что переизданный учебник грамматики для средних школ, он обратил внимание на эпиграф, взятый из сталинской статьи о языкознании. На титульном листе учебника стояло: «Грамматика есть собрание правил об изменении слов и их сочетаний в предложении» и подпись «Сталин». И надо же ему было сострить тогда, что за всякий иной ответ на вопрос о предмете грамматики школьник рискует получить двойку. Вокруг, казалось, были только вполне свои люди… Да и шуткой своей профессор если и хотел что-нибудь дискредитировать, то вовсе не Вождя, которому он отнюдь не «ставил двойки». Насмешки заслуживали только его усердные не по разуму восхвалители. Все это бывший профессор сказал на суде спецколлегии. Но его доводы остались без внимания. А вот то, что он был многолетним последователем ложного учения в языкознании, разгромленного в гениальном труде Сталина, суд во внимание принял и сопоставил со злостным выпадом подсудимого в адрес автора этого труда. И вот результат — двадцать лет заключения в лагерях особого назначения!
Бывший языковед, как и все почти интеллигенты ОЛП-17, был зачислен в ту же подсобную бригаду. Здесь ему были поручены для начала обязанности метельщика в одном из цехов. Подавленный своим несчастьем, старик старательно шаркал метлой по неровному полу из поставленных на торцы чурбаков, пугливо озираясь на работающие станки. В новой профессии его наставляли, а иногда даже помогали два старых арестанта, оба бывшие биологи. Но самой ценной их поддержка оказалась на пути следования подконвойных до завода и обратно в лагерь. Никогда не проходивший армейской службы, старик-профессор никак не мог попасть в ногу с марширующей колонной, все время сбиваясь и спотыкаясь. Доцент и Садовый Горошек опекали его, повторяя, как бестолковому новобранцу-рекруту: «Левой, левой…» — конечно, вполголоса, чтобы не слыхали конвойные. Но когда и это не помогало, они под локти приподнимали сухонького старика от земли, чтобы опустить его под ту же команду «Левой!». При этом Е-275 и Е-270 рисковали угодить в наручники за недержание рук за спиной. Старик тоже понимал это и, весь взмокший от напряжения, старался шагать в ногу. Уже через несколько дней это ему почти удавалось. Старая поговорка «если зайца долго бить, он и спички научится зажигать» получала практическое подтверждение.
Арестантская колонна подходила уже к повороту на мост, когда начальник конвоя, молодой усердный сержант-служака, заметил грузовик-студебеккер, который стоял за ответвлением дороги, свернув на нее, по-видимому, из-за какой-то неисправности. В этом не было ничего особенного, но сержант забеспокоился — мало ли что! Он вытащил из-за борта своего защитного ватника наган и взвел курок. Держать во время этапирования заключенных пистолет в кобуре, даже расстегнутой, было, по его мнению, недопустимо из-за недостаточной готовности оружия к бою. Как и его солдаты, начальник конвоя верил в опасность марша от завода до лагеря не столько всерьез, сколько «понарошку», как играющий в войну мальчишка. Но тем более опасны в руках таких незрелых людей становятся оружие и власть. Гулаговское начальство не только смотрело сквозь пальцы на убийство охранниками заключенных по малейшему формальному поводу, но фактически поощряло их. Прошлой зимой этот сержант застрелил заключенного, который шел крайним в ряду и, наступив на след от тракторных саней, упал на бок. А поскольку верхняя часть его тела оказалась за пределами разрешенной для колонны зоны, был уличен «в побеге». Такое понимание конвоирами своих прав, в сущности, совершенно не расходилось с буквой получаемых ими инструкций.
Читать дальше
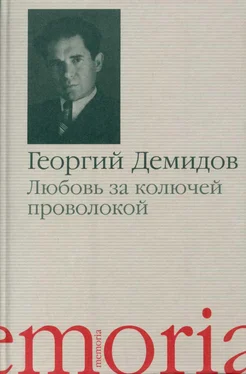
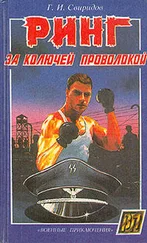
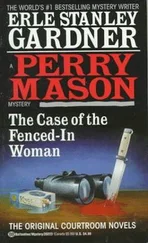


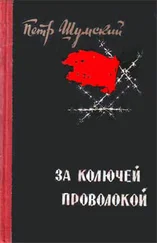
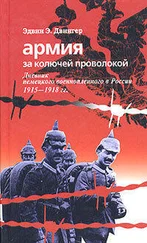
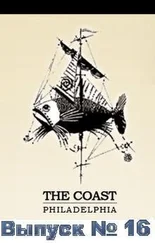
![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)