Мой сосед долго не начинал разговора, которого я ждал с чувством унылой неизбежности. Время от времени он поднимал голову, прислушиваясь к храпу и сопению наверху. Когда эти звуки стали сплошными, он спросил вполголоса:
— Вы не спите?
На секунду во мне промелькнуло подленькое желание прикинуться спящим. Будить уснувшего воспитанный человек, конечно, не стал бы, а завтра на людях все было бы для меня проще. Для меня, но не для него. И я ответил, что нет, не сплю. И даже повернулся к нему лицом. Слушать затылком было бы невежливо.
— Насколько я мог заметить, — сказал Кравцов, — вы были хорошо знакомы с моей женой.
Я ответил, что да, нам приходилось часто беседовать при встречах на полях и в лагерной зоне. Интеллигентные люди в лагере всегда тянутся друг к другу.
— Скажите, — он приподнялся на локте и понизил голос почти до шепота, — она вспоминала когда-нибудь обо мне?
Я не солгал, ответив, что Юлия Александровна вспоминала о своем муже с неизменной теплотой и горечью сожаления о его судьбе. Она ездила в Главную прокуратуру, хотела даже стать чем-то вроде современной декабристки.
— Бедная девочка… — старик растроганно помолчал. — Значит, она простила мне, что я, хотя и невольно, стал причиной крушения ее судьбы… И вы говорите, что она не питает ко мне чувства злобы?
Да нет же! Наоборот, Юлия Александровна говорит о профессоре Кравцове как о своем величайшем благодетеле и друге, почти отце… Я говорил убедительно, так как мне пока не нужно было обманывать бедного старика. Он опять вздохнул:
— Да, да, отца… Только как отца… Печальная привилегия возраста…
Интеллигентный человек, он не задавал мне щекотливых вопросов, и я начал уже надеяться, что напрасно боялся этого разговора. Но Кравцов испытывал, по-видимому, неодолимое желание поделиться с кем-то переживаниями, мучившими его, вероятно, не только все эти годы, но и прежде. Такое случается и с людьми сильного характера.
— Вы знаете, радостно, наверное, слышать о дочерней любви дочери или другой женщины, к которой сам не питаешь иных чувств, кроме отцовских… Но Юлию я любил. Любил долго и запоздало и долго колебался, прежде чем предложил ей супружество. Над стариковской любовью к молодым женщинам принято смеяться. Временами я и сам смеялся над собой, хотя и почти сквозь слезы. И пытался скрывать эту любовь от своей законной, но слишком молодой жены. Это трудно. Но еще труднее скрывать ревность… Вы не возражаете, что я тут разоткровенничался перед вами, случайным попутчиком? Вам, конечно, безразлично и, может быть, непонятно. Но вы знали Юлию, и это дает мне некоторое право на подобный разговор…
Я ответил, что нет, почему же?.. Я все отлично понимаю… И, действительно, понимал. Но до чего, однако же, тесен мир! Перефразируя известную поговорку о Вселенной и башмаке, я мог бы тогда сказать, что не вижу проку ото всех ее просторов, если место в них мне нашлось только под одним бушлатом с этим стариком!
А он, заручившись моим вынужденным согласием слушать, продолжал:
— Одно из самых мучительных чувств на свете — подавляемая и скрываемая ревность. А именно это чувство я испытывал, и не один год… Я понимал, конечно, и его несправедливость по отношению к своей жене, и его, так сказать, зоологический характер. Но легче мне от этого не было. Ревность старше любви на столько же, на сколько первобытный ящер старше человека разумного. И сидящий в нем ревнивый павиан соответственно сильнее этого человека. Но мне, кажется, удалось скрыть от Юлии этого своего павиана. И она никогда не узнает, чего мне это стоило…
Я мог бы подтвердить, что жена Кравцова, хотя и замечала переживания пожилого мужа, действительно не догадывалась, насколько они мучительны и глубоки. Но я сказал только, что совершенно согласен с его определением любви и ревности как сочетания в человеке чисто человеческого и чисто животного начал.
— Настоящая любовь по своей природе — жертвенна; ревность же — зоологически эгоистична…
— Вот, вот, — подтвердил он. — Но с этим редко соглашаются. Бытует мнение, что ревность — признак любви. Но это пошлая глупость. Она не более чем вредный и опасный рудимент при этой любви, способный ее убить… — Помолчав, он вздохнул: — Мне, впрочем, это не угрожало, так как любви ко мне не было. Существовал ее суррогат — уважение. И была верная дружба, выдержавшая, как я узнал от вас, жесточайшее испытание. А любовь была только дочерняя… Что ж, иначе и не могло быть при нашей разнице в возрасте. Я был наивен, надеясь на что-то большее…
Читать дальше
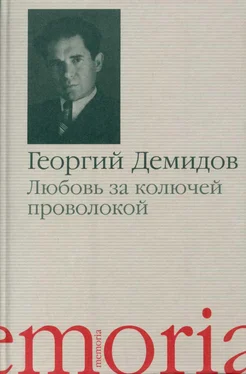

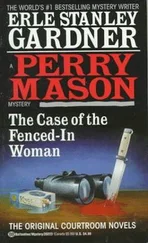


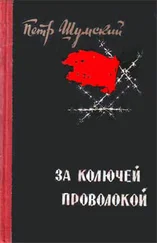
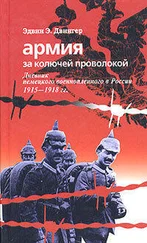

![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)