Ночное бдение наших героев-любовников не замедлило отразиться на их работе. Первоклассный косец Однако, шедший всегда первым, уступил сегодня это почетное место мне. А колхозный бухгалтер, тоже очень неплохой работяга, и вовсе норовил пристроиться в хвост косарям, так как во второй половине дня едва уже волочил ноги. Но старые железнодорожники, его постоянные оппоненты по вопросам морали, не позволяли этому «колхозному кобелю» отставать и угрожали «подрезать пятки», если он будет махать косой недостаточно активно. Выполнение плана по части баб не должно мешать производственному плану!
Женщины работали сегодня отдельно от мужчин, вороша сено на дальней делянке, где оно уже успело слежаться в рядах. Поэтому мы их видели только утром и во время обеда. Я думал, что Юлия Александровна будет на меня дуться. В конце концов, сколько раз она могла спускать мне мою бестактность, непонятливость и эту безобразную неуклюжесть в отношениях с женщиной! Но она была такой же, как вчера, ровной, ласковой и только немного чуть более насмешливой. Да и то так, что заметить это мог только я сам. Когда мы оказались рядом, она незаметно пожала мне руку. Нет, Кравцова была достаточно умна, чтобы не сердиться на то, чего все равно нельзя было изменить. И, очевидно, решила не настаивать более на своем праве быть пассивной стороной в деле постановки точки над «і», которое сама так отчетливо написала. Вечером, когда небо за сопкой опять начало багроветь от восходящей луны, а мы снова стояли на своем обычном месте, на берегу, я после долгого молчания спросил:
— Значит, вы считаете меня уже не монашествующим рыцарем, как прежде, а глупым ученым монахом, так, Юлия Александровна?
Она тихонько рассмеялась:
— А вы не находите, что оба они одинаково смешны? Вы просто большой ребенок!
И вдруг, приподнявшись на цыпочки, женщина обхватила меня руками за шею и, уткнувшись мне в грудь лицом, неожиданно заплакала:
— Злой ребенок! Из тех, которым нравится обрывать бабочкам крылья… Разве вы не видите, как я вас люблю…
Сначала я растерялся, начал что-то бормотать в ответ и, откинув сетку накомарника от лица плачущей женщины, руками пытался вытереть слезы на ее щеках. Но она плакала все сильнее и все теснее ко мне прижималась. И вдруг я почувствовал, как во мне поднялась откуда-то волна невыразимой нежности и острого желания. В одно мгновение эта волна смыла плотину всяких условностей и моих запутанных представлений о том, что хорошо и что плохо. Руки как будто сами подхватили маленькую, худенькую женщину, а ноги понесли ее прочь отсюда, где слишком близко от нас были другие люди. Женщина перестала плакать, и только слышно было, даже сквозь толстый ватник, как гулко бьется ее сердце. И в унисон ему, казалось, бьется мое.
Искать уединенного места долго не пришлось — их здесь было сколько угодно. Недалеко от берега, в густых зарослях тальника находилась уже скошенная поляна с одной-единственной копной посредине. К этой-то копне я и принес свою казавшуюся мне почти невесомой ношу. Все, что скопилось в нас обоих за целые уже годы противоестественных в сущности ограничений и запретов, внешних и внутренних, давнего интереса и глубокой симпатии друг к другу, сосредоточилось в эти минуты в стремлении к взаимному обладанию. И не было уже никаких препятствий для того, чтобы оно разрядилось теперь таким же взаимным наслаждением.
А потом мы сидели под той же копной и, устало обнявшись, молчали, как молчали и будут молчать в таких случаях миллиарды людских пар. По мере того как за сопками поднималась луна, наша лужайка становилась все более светлой, а окружающие ее кусты все более плотными и темными. Затем мы гуляли по острову, который весь целиком был сегодня в нашем распоряжении. Вчерашние любовники после почти бессонной ночи и длинного рабочего дня, едва поужинав, мертвым сном уснули в своих шалашах.
Женщины рассказывают о себе куда менее охотно, чем мужчины, и обычно только тогда, когда это по-настоящему нужно. Но теперь я должен был знать, кто же она, эта первая женщина, к которой я испытал истинное, почти неодолимое влечение. Тем более что очень может быть, она окажется и последней. И Юлия, хотя и довольно скупо, рассказала мне свою историю.
Мать у нее умерла в одну из эпидемий времен Гражданской войны, и она ее лишь смутно помнила. Отец, инженер-строитель, позже женился на другой женщине, с которой, как это чаще всего бывает, падчерица не нашла общего языка. Потом отец умер, а мачеха вышла замуж за другого, и Юлия оказалась фактически в чужой семье. В ней сироту не обижали, на это она не может пожаловаться, но и не могли дать того тепла, в котором, едва ли не острее, чем в хлебе, нуждается ребенок. И если она такое тепло все-таки знала, то оно исходило от старого друга ее отца профессора Кравцова. Это он заметил в ней недетскую тягу к живописи, помог поступить в художественное училище и его окончить. На протяжении многих лет духовно этот человек заменял ей отца. А потом, когда она была уже на последнем курсе, сделал ей предложение. Это был старый холостяк, собиравшийся весь век прожить одиноко, но под старость неожиданно сдавший свои позиции. «Седина в бороду — бес в ребро», как сам он шутил по этому поводу. Предложение было принято без особых колебаний. И не потому, конечно, что молодая девушка могла испытывать к пожилому человеку какое-то иное чувство, кроме дочернего. Но именно оно на холодном фоне жизни в неродной семье и определило, главным образом, ее решение. Кроме того, начинающая художница по-настоящему увлекалась только своим искусством и для мыслей о романах, а тем более для них самих, у нее как-то не оставалось времени. А скорее, наверное, просто не пришла ее бабья пора. Для многих женщин эта пора наступает сравнительно поздно, иногда даже слишком поздно. А тогда у нее было время, отмеченное радостью первых успехов, горестью неудач и всего того, с чем связана всякая творческая работа. Ухаживания молодых мужчин хорошенькой женщине льстили, но и только…
Читать дальше
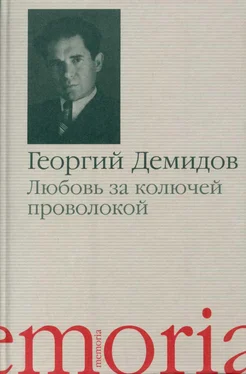

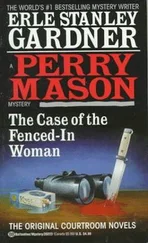


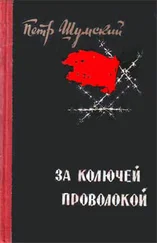
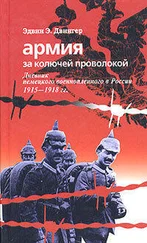

![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)