Уже тогда я заметил в выражении глаз своей спутницы что-то большее, чем женскую сострадательность и признательность за свое спасение. Ощущая себя сейчас почти абсолютно бесполым существом, я не мог себе представить, что существуют люди, способные проявить любовь даже в таких обстоятельствах, в которых тогда находились мы. Позднее я убедился, что это не так, хотя во всех известных мне случаях подобного рода, такую способность проявляли неизменно женщины. Вероятно, это потому, что в них любое положительное чувство к мужчине, как только оно достигает достаточной силы, может нередко перейти в любовь.
Пересылка большого, только что организованного лесорубного лагеря оказалась несколькими наспех построенными бараками со сплошными нарами. Окружалась пересыльная зона не оградой из колючей проволоки, а высоким тыном из заостренных наверху лозин, вертикально переплетенных вокруг горизонтальных жердей. Электричества не было тут и в помине, и зона освещалась по ночам кострами, которые жгли на заполненных землей «ряжах» — бревенчатых срубах высотой около метра. В бараках светили коптилки или, в лучшем случае, фонари «летучая мышь». Мужская и женская подзоны были разделены здесь только условно.
Из-за ранений меня не отправляли в рабочий лагерь довольно долго. Почти так же долго держали здесь и женщин, для лесоповальных лагерей они считались, так сказать, принудительным ассортиментом. И почти каждый день в грязный переполненный людьми барак ко мне приходила бывшая маршальша. Предлогов для таких визитов было много. Она перестирала в лагерной бане мои окровавленные рубахи, заштопала и залатала невесть откуда добытой иглой прорехи и дыры на одежде, в том числе нанесенные ножом бандита. Иногда приносила мне куски хлеба, якобы для нее избыточные: «Поешь, тебе нужней!» От всех ее услуг и приношений я всегда отнекивался, но она была настойчивой. Я не думаю, что такая самоотверженность была свойственна этой женщине вообще. Скорее, это был результат вспыхнувшего ко мне чувства, которого она более не скрывала.
А я принял это чувство с удивлением, граничащим почти с испугом. Любовь на фоне окружающей нас действительности казалась мне какой-то почти аномалией. Да и чем я мог ответить тогда на откровенные, зовущие взгляды женщины, ее намеки, а подчас и прямые требования. То, что мне, мужчине, казалось пошлым, зазорным, постыдным, эта дама из высшего советского общества воспринимала не то с цинизмом, не то с какой-то отчаянной решимостью: «Ну и что?»
Самое худшее заключалось в том, что она так и не смогла постигнуть моего внутреннего состояния, меряя его на какой-то свой, чуждый мне аршин. Сначала ее любовь немножко мне даже льстила, потом начала смущать и, наконец, тяготить. Я начал избегать встреч с патологически, как мне казалось, страстной женщиной и очень хотел, чтобы меня поскорее увезли отсюда. Конец наших отношений омрачился тягостной, постыдной сценой. Изнывающая от непонятного мне желания, женщина выследила меня в каком-то закоулке между лагерными строениями:
— Милый, нас никто не видит! Хочу тебя, понимаешь, хочу…
Я ретировался, почти грубо оттолкнув ее от себя. И никогда не забуду несшихся мне вслед истерических женских выкриков:
— Интеллигентишка несчастный… Трус…
Да, я был трусом в той области человеческих отношений, в которой даже вообще-то не очень храбрые мужчины чувствуют себя большей частью весьма уверенно. По-видимому, все в жизни нужно постигать своевременно и понимать, по возможности, проще.
Вот и теперь я повел себя с точки зрения обиженной мною женщины просто как трус, уловив в ее взгляде нечто общее с выражением глаз полузабытой уже маршалихи. Впрочем, сейчас оснований для испуга перед соблазнами любви было, пожалуй, больше. Ведь на мне не было, как тогда, брони безразличия к женщине. Наоборот. Обидев Кравцову, я мучился теперь еще и от сознания своей вины перед ней. Когда рельс у вахты звонил на обед, мои ноги чуть не сами несли меня к столовой, чтобы подождать там Юлию, встретиться с ней и объяснить, что я не такой уж безнадежный хам и трус. Что я прошу у нее прощения за грубость и разрешения видеть ее всякий раз, когда представится возможность. И потом будь что будет. Но вместо этого я с полдороги снова и снова возвращался в свой барак и мрачным бирюком сидел в нем, ожидая, когда «цынга» зазвякает уже с обеда.
Так продолжалось несколько дней. А потом я пошел в лагерную санчасть просить, чтобы меня выписали на работу с отправлением в лесную бригаду, к которой я был постоянно приписан. Лекпом удивился:
Читать дальше
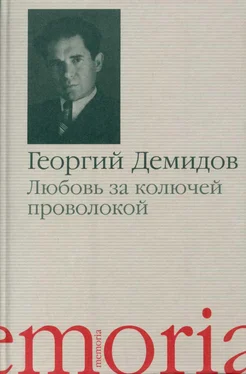

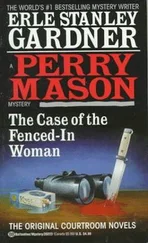


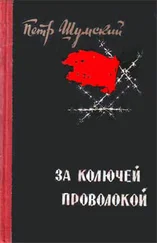
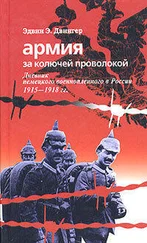

![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)