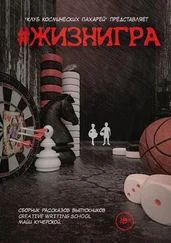На самом деле стать фидаином было неслыханно сложно. Любопытные, зеваки, разнокалиберные мошенники и припадочные фанатики, стекавшиеся к Старцу Горы со всех сторон, отсеивались быстро и безжалостно – еще на подступах к Аламуту. Вся эта шушера, дожидаясь своей очереди на прием, оседала в ближайших деревнях и немедленно попадала в ласковые лапы бесчисленных агентов Хасана. Расторопные трактирщики, тихие старцы, услужливые зазывалы – все они быстро и незаметно отделяли зерна от плевел: подпаивали, отсеивали, запугивали, убирали слишком болтливых, чересчур впечатлительных, трусливых, откровенно сумасшедших, так что до встречи с отцами-командирами добирались только самые вменяемые и терпеливые. И те, кого специально завербовали особые агенты-шатуны, без конца сканировавшие Персию в поисках подходящего человеческого стройматериала.
Но и это было не все. Хасан знал, что каждую душу придется протрясти сквозь самое частое сито, пропустить сквозь самые мелкие ножи, чтобы потом никогда не вспоминать о получившемся человеческом фарше. И никогда не сомневаться в том, что из него можно вылепить все, что угодно. Ему угодно. Потому первично отобранных долго проверяли на физическую выносливость (кросс по жаре с полной выкладкой, бой с ножом, рукопашка – в конце концов, Хасану не нужны были бракованные новобранцы, а даже одного пустячного спарринга на краю пропасти было достаточно для того, чтобы избавиться от неуклюжих). И еще дольше людей томили в напрасном, унизительном ожидании – так выяснялись заносчивые и просто нетерпеливые.
Прошедших и этот этап многие месяцы гоняли, как сидоровых коз, на высокогорных базах: тренировали уже по-взрослому, держали на голодном пайке и за малейшую провинность лупили – демонстративно и нешуточно, как в американских боевиках про спецназ. Так готовилось сырье для Хасана – воины, фуражиры, инструктора, послушное пушечное мясо. Боевые торпеды. И только очень, очень немногие из них удостаивались чести стать фидаинами.
Таких отбирал сам Хасан ибн Саббах, один раз в год наезжавший в свои военные лагеря с личной инспекцией. Разумеется, не было никакой помпы, никаких общих построений и торжественного принятия присяги. Разве что злее становились бритоголовые сержанты, да необмятые новобранцы удивленно провожали глазами суховатого неприметного дядьку в халате, которого постеснялся бы и рыночный нищий. Это и есть САМ? А ты думал, он в золотых подштанниках и ростом с гору, ишак?
Хасан жил в лагере недолго – каких-нибудь пару дней, питался из общего котла, вместе со всеми урывками кемарил прямо на голых камнях, но по горам, понятное дело, не скакал, плечевой пояс мешками с песком не прокачивал да и в разговоры по душам подобравшихся солдатиков понапрасну не втягивал. Просто наблюдал. И перед отъездом непременно выбирал двух-трех кандидатов, далеко не всегда, кстати, самых крепких, а иной раз и откровенно ледащих с виду.
Отобранным предлагалось самостоятельно добраться до Аламута, стартовав одновременно с ибн Саббахом, – но пешком. И с условием прибыть на место раньше Хасана и другой дорогой. Условие непростое, если учесть, что проходимая для человека и животного тропа на Аламут была всего одна, а передвигаться ибн Саббах предпочитал на знаменитых курдистанских ишаках, выносливых и смирных, как пеоны. Ишаков этих считали самыми красивыми и сильными в мире и вывозили на экспорт даже в Индию, не стесняясь драть за каждую пару шелковистых ушей и исплаканных глаз аж по тридцать тогдашних увесистых серебряных марок.
Добирались до Аламута не все будущие фидаины, но те, что добирались, еще неделю сидели у подножия крепости, ободранные, страшные, по самые виски заросшие голодной сизой щетиной. Ждали. Пока в один прекрасный день из крепости не спускался молчаливый воин, чтобы вознести их на самую вершину. В логово Хасана ибн Саббаха. Великого Старца Горы.
* * *
Ножницы. Ножницы для резекции носовых раковин. Ножницы для роговиц тупоконечные прямые. Ножницы для синусотомии. Для рубцовых тканей вертикально изогнутые. Ножницы для стекловидного тела. Ножницы расширительные. Ножницы для рассечения плода.
* * *
В общей палате к нему наконец допустили родителей, причем мать все полчаса чинно сидела на краю хрипуновской койки, неудобно натянув одеяло, и изо всех сил пыталась заплакать, а отец, насильно выведенный из запоя на три дня раньше положенного, маялся у дверей, опухший и мрачный, как бородавочник, едва выползший на свет из асфальтовой лужи. Хрипунов, вынужденный из-за бесконечных капельниц все время лежать на спине, долго рассматривал родителей со дна своего менингита неподвижными и яркими глазами, словно не узнавая или пытаясь сравнить их с каким-то далеким, полузабытым образчиком. Сравнением своим он явно остался недоволен (у матери на лбу прорезалась изумленная своей глубиной страдальческая морщина, а отец таращил красные, как волдыри, мокнущие, вспухшие глаза) и потому устало отвернулся к стене, давая понять, что аудиенция закончена.
Читать дальше
![Марина Степнова Хирург [litres] обложка книги](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-cover.webp)
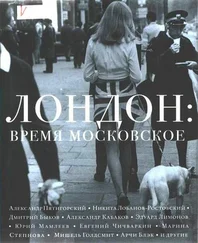





![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Серова - Хирург дьявола [litres]](/books/400874/marina-serova-hirurg-dyavola-litres-thumb.webp)