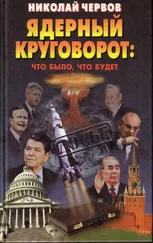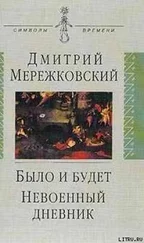— Ничего, ничего, — пробормотал он и, не удержавшись, как бы успокаивая, прикоснулся к ее полной смуглой и странно прохладной на солнце руке. — Ничего, пар костей не ломит.
— А я из-за этого пекла больше всего и переживала. Вдруг, думаю, удар этот солнечный, ведь и с молодыми даже случается.
— Да что ты, ей-богу! — Старик даже раздражение почувствовал. — Во что ты меня производишь? Неужто я доходяга такой?
— Доходяга не доходяга, а девятый десяток идет. Не шуточное дело… Может, молочка свежего нацедить?
— Некуда.
— А я в бутылку прямо. Давайте, давайте, мы осторожненько…
Молоко потекло старику по пальцам, и он остановил Татьяну:
— Погоди, на землю льем!
В бутылке все-таки оказалось немного молока, и старик сделал пару больших глотков с таким ощущением, словно ему душу чем-то теплым и мягким погладили.
— Что, молочком отпаиваешь? — крикнула подошедшая Надюшка. — Слушай, дедуля, может, и до конца, до вечера останешься, а? По-ударному!
— Могу, — отозвался старик. Он как бы и призабыл уже недавнюю свою маету. — Только приходите пораньше, а то коровенки колготиться начинают, не удержишь.
— Да ты что, Надежда, сдурела совсем? — возмутилась невестка. — Совесть у тебя есть? Запрягла старого человека и радуешься. Нет уж, давай теперь паси сама, как договаривались. А не будешь, я корову забираю, пусть дома стоит.
— Ладно, ладно, — примирительно проговорила Надюшка. — Я ж шуткую. Ты гляди, дедуля, как она тебя защищает!
Наутро, проснувшись, старик почувствовал боль во всем теле, но она не тяготила, не пугала его и была даже приятна, напоминая то, давнее уже время, когда ему часто приходилось работать до ломоты в мышцах и костях.
Вспомнив вчерашнюю пастьбу, старик улыбнулся. Хорошо было! И на вольный белый свет посмотрел, и с людьми поговорил, и дело полезное сделал. Да еще и обнаружил, что не так уж он, оказывается, дряхл, как считал раньше. Наподобие молодого за коровами ухлестывал. И сердце выдержало, и все остальное. В постель, правда, пришлось лечь рано с устатку, но зато спал на славу и снилось веселое. Пляска какая-то, гульба…
Когда начал одеваться, боль в мышцах сделалась настолько сильной, что он поморщился и тихонько покряхтел. Но и это его ничуть не смутило, знал, что пройдет, надо лишь, не щадя себя, размяться поскорее.
В сарае он долго стоял перед верстаком в неподвижности, с удивлением осознавая, что браться за работу его не тянет. И не в слабости и не в боли была причина, нет. Просто гроб не хотелось делать, нелепым, диким ему вдруг это представилось. Действительно, нашел о чем беспокоиться, неужели не все равно, как в землю лечь? Он вспомнил вчерашний день, и действия свои, и ощущения, и мысли, выпрямился, повел плечами, преодолевая боль в груди и спине. Затеял на свою голову мороку! Ведь не торопится же он, в самом деле, туда… Но, с другой стороны, не бросать же начатое, никогда он себе такого не позволял. Решено — сделано. Да и сыну, как ни говори, в будущем одной заботой меньше будет…
И старик заставил себя взяться за работу. Сначала было тяжко — руки не слушались, поясницу ломило так, что он зубами поскрипывал. Но потихоньку он разгорелся, разогнал кровь, размял суставы и мышцы. Потихоньку дело пошло-поехало, все больше и полнее затягивая его в себя. Он измерял, вырубал шипы и пазы, обстругивал. Мало-помалу конечная цель работы отступала на второй план, забывалась как-то, оставались лишь руки его, инструмент и древесина, ее податливость и упорство, ее запах и цвет. Удивительно, что чувство свободы и воли, которое он испытывал вчера, в логу, на зеленой траве, под голубым высоким небом, возникло в нем и здесь, сейчас, в крохотном этом сарайчике. Оно было в силе и точности его движений, в размашистости их при работе фуганком, в витом и плавном рисунке древесины, в запахе ее, крепком и бодрящем. Работая, старик словно бы освобождал, раскрепощал себя, создавал вокруг все больше вольного пространства. Он и дышал теперь под стать этому — мерно, спокойно и глубоко.
В последующие дни все повторялось. Старик начинал трудиться с неохотой, преодолевая некое упорное внутреннее сопротивление, но потом дело увлекало, захватывало, и было даже жаль от него отрываться.
На шестой день гроб был готов. Игрушка получилась, а не гроб, — аккуратный, ладный. Красивый даже. Нигде ни трещины, ни щели, ни задоринки, как из одного куска дерева вырублен. Доски были подогнаны так плотно, что хоть на воду его спускай и плавай, словно в лодке.
Читать дальше