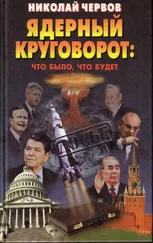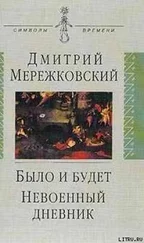— Как же это, дед Иван? — удивилась племянница Силантия. — При таком при случае не выпить грех.
— Ничего, ничего… — виновато пробормотал старик. — Я помаленьку-полегоньку. Мне, понимаешь ты, теперь лихачить нельзя.
Застолье постепенно оживлялось. Сначала, вспоминая Силантия, вздыхали, покачивали головами печально, потом стали понемногу перебирать всякие смешные, забавные случаи из его жизни, а уж их-то хватало. Лихой был мужик, веселый, и за словом в карман не лез, и вел себя всегда по-своему, наособицу. А затем разговор стал и на другие, посторонние темы потихоньку переключаться, голоса людей становились громче, движения смелей и размашистей, и смешок уже кое-где начинал пробиваться…
Что ж, думал старик, все правильно. Живые живое гадают. Да и горевать-то, слезы лить особенно нечего. Силантий свое прожил — и детей, и внуков, и правнуков развел, и повоевал, и поработал на веку, и водки попил, и табаку гору целую выкурил. И помер удобно и для себя, и для других. Чего ж еще надо?
В конце концов старику стало казаться, что если б можно, то собравшиеся за столом и песню бы спели, а то и сплясали бы — такое оживление, веселье почти было вокруг. Да и случись такое, он бы, пожалуй, этого и не осудил…
Старик вышел во двор передохнуть от шума и многолюдья. Было тихо, тепло, на темном, с фиолетовым оттенком небе стояла яркая луна.
Сельское кладбище располагалось за рекой, за лугом, и с этой как раз стороны доносилось постанывание лягушек и редкие соловьиные трели. Глядя туда, старик вспомнил Силантия. Где он теперь? Везде. И в этих то резких, то глухих, словно идущих из-под земли, стонущих звуках; и в этом запахе лопухов и полыни; и в этом мягком, чуть дымном лунном свете…
Из-за угла дома, из палисадника под окнами послышались возня и шорох.
— Ну погоди… Слышь, Валь, постой… — бормотал кто-то урезонивающе.
— Отстань! Отстань, тебе говорят! Грабли-то не распускай… — Девичий голос был и строг, и чуть смешлив, и из самой глубины невольная в нем пробивалась ласка.
Доски старик отбирал долго и тщательно: самые ладные, без суков и расщепов. Осматривал каждую, ощупывал, выискивая дефекты, нянчил в руках, с удовольствием чувствуя особенную тяжесть дубовой древесины, и наконец откладывал в сторону.
Сын, заскочивший на машине пообедать, застал его за этим занятием.
— Ты что это, батя? — спросил он с удивлением. — Зачем отбираешь-то.
— А гроб себе сделать хочу, — сказал старик просто.
— Как гроб? — опешил Федор.
— Обыкновенно. Не знаешь, какие гробы бывают? Вот сделаю — поглядишь.
— Постой, постой… Я чтой-то не понимаю — к чему такую ерундовину затевать?
— Это не ерундовина, милок. Это вещь сурьезная. — Старик лукаво усмехнулся. — Сурьезней некуда.
— Да зачем, елки зеленые?! — воскликнул сын раздраженно. — Ты что, помирать, что ли, собрался?
Старик аккуратно отложил в сторону очередную доску, выпрямился и посмотрел вокруг. Лицо его стало задумчивым и серьезным.
— Как тебе сказать… Собрался не собрался, а не откажешься. Потихоньку надо и готовиться начинать. Это самое дело не за горами…
— Да брось ты! — крикнул Федор. — Ты ж вон крепкий еще какой! Поживешь!
— А я и не против, — засмеялся старик. — Поживу, пока живется. Почему не пожить?
— Так что ж ты такое затеваешь?
— Хочу сделать, как тому быть следует. Чтоб вещь была. А то вон погляди у Силантия, это стыд, какую ему тару сколотили…
— Да сделаю я тебе, господи, не беспокойся. На совесть сделаю.
— А-а! — отмахнулся старик. — Это ты счас так говоришь. А там как пойдет спешка да суета… Слушай, чего ты разгоношился? Тебе-то что?
— Нехорошо как-то… — растерянно пробормотал Федор.
— Чем же? Это вы судите — помер и ладно. И взятки гладки, пусть живые разбираются, что и как. А раньше и смертное себе готовили, и деньги на похороны да поминки собирали. Чтобы родным потом меньше было хлопот. Нет, милый, я себе за век два дома поставил, я себе и домовину сделаю. И ты меня в этом не укорачивай, не трожь!
— Делай на здоровье! — воскликнул Федор и примолк, покашлял смущенно. — То есть, это… смотри, тебе виднее.
К делу старик приступил с особенной обстоятельностью. Убрал сарай, даже подмел его, хоть в этом никакой нужды и не было — все равно стружками завалишь. Потом инструмент подвострил и протер стекла окошка перед верстаком для лучшего освещения. На душе у него при этом было и торжественно и грустно. Как знать, может, он затевал теперь последнюю в своей жизни столярную работу!
Читать дальше