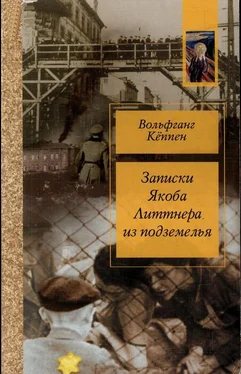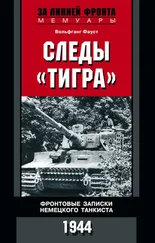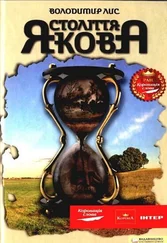Позднее крестьяне назвали нам ужасное число: тысячу пятьдесят жертв собрала эта ночь. Постепенно покинутые жилища были закрыты и опечатаны. Этим занималась еврейская полиция. Но перед этим еще раз прошел грабеж, на этот раз официальный. Из Тернополя приехала группа СД под командой некоего Бишофа, человека, о котором рассказывали особенно много ужасного. Он приехал со своей любовницей по имени Ядвига Партыка, из польских немцев. Еврейское добро свозили на подводах к зданию кооператива. Тем временем Бишоф с револьвером и хлыстом сам рыскал по домам; его сопровождали двое полицейских. Одним из них был Грюнберг, зять заместителя старосты. Он нес литровую бутыль водки, к которой Бишоф то и дело прикладывался. Когда Бишоф дошел до нашего жилища, он приказал остальным ждать его на улице. На вопрос, почему это мы не «выселены», я ответил: «Я работаю». Бишоф потребовал мое удостоверение и внимательно изучил его. Приказал мне вывернуть карманы. Все это время выродок махал хлыстом у моего лица, то и дело угрожая ударить. После этого он отобрал у меня бумажник, серебряные часы, авторучку, почтовые марки и маленькое золотое кольцо, память о моей матери.
Тяжелая русская зима накрыла наше убогое гетто снежным покрывалом; широкий белый саван, сотканный природой, лежит на ее полумертвых детях и тех, кто уже в земле, лежит холодно и равнодушно, но в нем все же нет той жестокости, какая есть в людях. Мое дело — по-прежнему мести улицы, расчищая их для патрулей, для наших мучителей. От голода и холода я в конце концов слег и борюсь в нашей лачуге с тяжелым воспалением легких. Я много размышляю, и больше, чем страх перед грядущим, меня заботит вопрос о вине, вопрос о моей вине и вине других. Я ищу истоки вины. Почему нам досталась такая ужасная судьба? То и дело мысль моя обращается к Богу. Я порываюсь восстать против Его воли. И все же я доверяюсь Ему. Странно, если принять во внимание мое бедственное положение, но я верю, что Он меня спасет.
Я все еще лежу больной в этой лачуге, в этой норе, в нашем последнем пристанище. Настырно и бесстыдно снуют мыши по постели больного, у них нет никакого пиетета перед гонимым и униженным, перед той развалиной, которая когда-то была человеком. Сначала я хотел было прогнать маленьких серых зверьков, потом они начали забавлять меня. Постепенно я научился различать их, я придумал им имена и встречал их как гостей. Из-за того что меня так часто хотели лишить жизни, я научился уважать жизнь — даже низших созданий.
Мои проворные, игривые, юркие мышки шепчутся, а в гетто тоже шепчутся — от страха. Облавы, за которыми следуют отправки в лагеря, приходят как частые грозы, и охота на людей лютует, с криками загонщиков, в ночи. Людей ловят, вытаскивают из постелей, хватают на улицах и держат в еврейской полиции, пока не наберется «партия», партия для лагеря и смерти. Стариков теперь просто сразу расстреливают. Смерть здесь не ходит с косой, как на старых гравюрах. У нее в руках автомат. Сегодня ночью мы снова слышали очереди, которыми она косит людей. А поутру у еврейского совета увидели трупы, в том числе и труп женщины, которая пришла просить об освобождении мужа.
Больного приходят проведать. Приходящие никогда не смеются. Сегодня был Шмаюк; его родители, его сестра, его жена были убиты. Вчера у моей постели сидел Иго Грюнберг. Он один из очень немногих, кого отпустили из исправительного лагеря. Дома его еще ждали жена и ребенок. Но его родители, все братья и сестры и зять были уже мертвы. Больной продолжает искать смысл происходящего. Ночи его проходят без сна.
В еврейском совете служащим в полиции раздавали водку. Это известие словно лесной пожар бежало по гетто. Мы все знаем, что это означает — большую охоту на людей. Хотя я был все еще в плохом состоянии, пришлось спускаться в подпол. Совершенно обессиленный, я корчился в темной, сырой норе.
К несчастью, когда был дан сигнал к облаве, в нашей лачуге были два чужих человека. В суматохе они попытались втиснуться в наше убежище, но места для них уже не было. Только по нашей настоятельной просьбе оба чужака, знавшие теперь о нашем тайнике, выбрались наверх и стали искать другие укрытия. Какое-то время в нашем убежище было тихо. Потом мы услышали, что в лачугу зашли. По голосам мы узнали людей из еврейской полиции. Они довольно долго были в доме, но в конце концов ушли. Мы уже думали, что самое худшее позади. Но мы обманулись.
Около пяти утра пришли другие люди из полиции и без долгих поисков направились прямо к нашему укрытию, сняли маскировку лаза и постучали в крышку. Нас выдали! Нам пришлось открыть люк, и мы дрожа выбрались наверх. Только я остался внизу, я чувствовал себя так, словно уже умер. Молодчики забрали Митека с собой. Меня с проклятиями оставили лежать под землей. Им просто не хотелось со мной возиться, ведь пришлось бы тащить меня на себе. Янина была в полном отчаянии от того, что увели Митека, и побежала в совет умолять о его освобождении. Брошенный, беспомощный, отчаявшийся, лежал я в своей яме. Я метался в жару, и мне чудилось, будто меня уже погребли заживо. Лаз в подпол был очень узкий, как бутылочное горлышко. Я казался себе пробкой, которую протолкнули в бутылку. Как я мог, такой слабый, снова выбраться на свет? Меня могли просто пристрелить сверху. Я настолько отчаялся, что уже хотел, чтобы это случилось и все побыстрее закончилось. Вдруг появились пятеро из полиции. Пыхтя от напряжения, они тянули меня вверх, протискивая через лаз. Они бросили меня на пол лачуги, где я и остался лежать, с трудом дыша. Озноб тряс меня как старый автомобиль, который все пытается тронуться с места. В конце концов мой жалкий вид, должно быть, вызвал сочувствие этих людей. Они ничего мне не сделали и вызвали врача. И случилось еще одно чудо: Митека в еврейском совете отпустили. Янина была вне себя от счастья. В очередной раз оказалось, что мы все еще живы.
Читать дальше