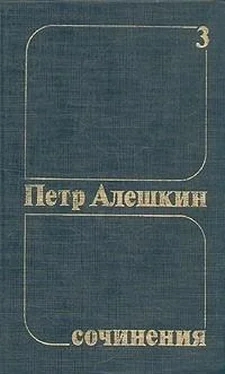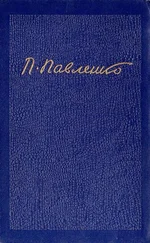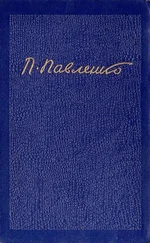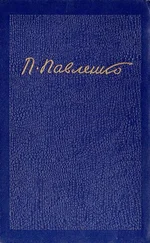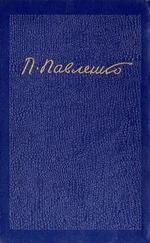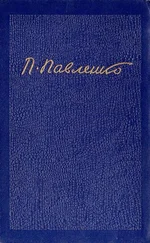— Не спится? — услышал Матцев шепот Павлушина.
— Разбудил я тебя? — шевельнулся Федор.
— Я не спал.
— Наверно, я опять во сне разговаривал? Видел что–то, а вспомнить не могу… Вертится вот тут, — покрутил Гончаров рукой с растопыренными пальцами около виска, — рядышком, а не вспоминается.
— Опять цыпленочка поминал, — прошептал Андрей.
— Ну–да, да, — вздохнул Гончаров. — А вспомнить не могу…
— Гляжу я на тебя, удивляюсь, до чего ты жестокий!
— Я?! — Чурбачок стукнул глухо под Гончаровым. — Ты охренел! Ну, выдал… — Шепот Гончарова возмущенный, обиженный.
— Выдал то, что ослу видно… Чем сын перед — тобой виноват? За что его–то мучаешь? Да и жена, если разобраться…
— Я мучаю сына? Это, значит, я виноват! — ахнул, перебил Гончаров. Он от возмущения даже руки вскинул, хлопнул ими по коленям.
— Ну не я же…
— Это я их мучаю… Видал, повернул как… Может, я тут царствую, веселюсь? — гуляй, рванина? — Гончаров возмущался, но говорил шепотом.
— А ты считаешь, что ты мучаешься здесь, а они там радуются? Так? Да ты подумай, каково им там!..
— Это ты у сына детство отнимаешь, ты его сделал безотцовщиной, а теперь бредишь — цыпленочек! Василек!
— Не я, не я! Это она, сука.. — Гончаров захлебнулся, жадно затянулся сигаретой.
— Она не сука… И сам ты это знаешь… Гульнула раз — и все, сука! А ты не гулял? Мало у тебя баб было, вспомни, вспомни, как рассказывал, как ты бабу знакомого обработал, пока он в магазин за хлебом бегал, а вас вдвоем оставил. Или это не ты был? А здесь, в Сибири, кто у паспортистки. ночевал? Я? А она там, дура, сына твоего хетает. Думы только о нем да о тебе…
— Откуда ты знаешь? — фыркнул Гончаров, но уже не столь возмущенно. Он, ощетинившийся вначале, теперь как–то осел, сильнее скукожился, выставил спину.
— Знаю, знаю… Дура она, дура у тебя, а не сука. Давно надо было загулять на всю ивановскую. Вспомни, каким ты мужем был? Много ты ей радости приносил? Пьяным с работы, небось, приползешь и покрикиваешь: корми, обмывай его… Князек чертов! А много ласки она от тебя видела? Или ты человек, а она так, лошадь домашняя. Не так я говорю? А? Подумай, не так?
И странно, Гончаров перестал возражать, затих, а когда Андрей выдохся, буркнул:
— Чего ты разорался? Я тебя не трогаю…
— Трогаешь, да, трогаешь! Горько и жалко смотреть на тебя. Хрен бы с тобой, твоя жизнь, мучайся, дурак, если охота! Но ты ведь еще двум людям жизнь портишь. Цыпленочек твой вырастет, думаешь, счастливым будет? Из–за тебя, дурака, тоже вся жизнь наперекосяк пойдет. И всех, кто рядом с ним окажется, страдать заставит…
— Ты уж меня совсем задурачил. Может, во всех бедах мира я виноват? — усмехнулся глухо Гончаров. Тоска в его голосе чувствовалась, безысходность — Что ж мне теперь делать?..
— Ну и задачка сложная… Как будто тебя тут на цепи держат! Подпоясался да домой, где тебя ждут, любят.
— Любят, — хмыкнул Гончаров, но немножко распрямился, расправил плечи, перестал ежиться. — Как сказала бы моя бабка, пророк выискался, все знает…
— Тут и пророком быть не надо, просто человеком… Прощать надо, а то себе любую пакость прощаем, а другому…
— Думаешь, получится, а? — в голосе Гончарова слышались и сомнение, и надежда, и скрытая просьба убедить его, уверить, что получится.
— От тебя зависит, пить будешь каждый день, не получится.
— Да, не получится, — вздохнул Гончаров. — И не ждут меня. Рада, небось…
— А ты напиши, попробуй. Не будь гордецом. Спроси, как сын, расскажи, как ты тут. Пошли подарочек…
— Ну–да, — усмехнулся Гончаров. — Подарочек!
— А как же ты хотел? Ты с лаской, и к тебе с лаской…
Гончаров кинул окурок в печку, прикрыл дверцу, но не лег, посидел еще в задумчивости. Андрей тоже молчал, не сказал больше ни слова. Матцев согласен был с Павлушиным, думал, как нетерпим бывает человек к проступкам других: гордость! Правильно в библии отнесли этот человеческий порок к самым злейшим. Сколько гордость жизней отравила, сгубила. «А сам я? — мелькнуло, вспомнилось, и озноб пробежал по спине. — А разве не гордость меня сюда привела? А я разобрался? Я узнал, что там было?.. Ну да, было, было! Это ясно… А почему? Любила его, а не меня? Нет, любила меня, это же видно было! И счастлива была… А если не любила, зачем тогда все пишет письма? Чего добивается? Оправдаться хочет? А зачем? Год скоро будет, как удрал… Зачем ей нужно оправдываться? Она не из закомплексованных. Удрал и удрал, казалось бы… Надо прочитать хотя бы ее последнее письмо… А ведь мне не все равно, что она шлет письма. Было бы все равно, выбрасывал бы. И приятно, когда получаю. Что это? Тоже гордость? Приятно думать, что она кается, страдает. А ведь прав Павлушин: выходит, нам можно баб иметь, это нормально, а когда они — преступление… Нет, не прав, не надо гадить ни им, ни нам… Почему все–таки она была с ним? Чем он ее привлек? — защемило опять в груди, снова явно представилась сцена, когда он вернулся за конспектом. — Тварь! Стерва распутная!»
Читать дальше