— Ну, что с ним делать? — спрашивала мать. — Нет, все! Пора показывать его доктору!
— Но ведь ты сама доктор, должна понимать: ребенок начинает говорить, когда ему захочется. И вообще, все это оттого, что мы всегда говорим громко в его комнате, — убеждала ее бабушка. — А потом, этот узбекский… Мальчик совсем растерялся, в голове у него все перепуталось. Его материнский — таджикский, он должен слышать только этот язык…
— Он смышленый и веселый. И не болеет часто, — успокаивала себя мать, и разговор их на этом кончался.
Отец, тоже врач, был более терпелив и сдержан.
— Я знаю, что он не глухонемой ребенок… и надо ждать… Впрочем, — обращал он иронический взгляд в сторону бабушки, — узбекский ему тоже не мешает знать…
— Но ведь сначала один язык, а потом, пожалуйста, другой, — раздраженно отвечала бабушка, затем наклонялась к Душану (сейчас он уже сидел во дворе на коврике), давая понять, что более всего ему нужно теперь знать то, что она будет рассказывать, — бесконечно болтливую и назидательную историю, которую из вечера к вечеру, едва повеет прохладой, ведет мудрый Попугай, такой же безъязыкий, как и Душан, но благодаря этому, вернее, наперекор этому ставший вдруг без меры болтливым… Сказки Попугая — самые первые сказки, которые он услышал, но вместо удивления и наслаждения они утомляли его своей нескончаемостью, и он тревожился в душе, что и сам, как этот Попугай, научившись наконец разговаривать, станет говорить безудержно и одни глупости, ибо назидательность Попугая казалась ему не чем другим, как глупостью, — ведь он в этой назидательности ничего еще не понимал. И он еще больше боялся того времени, когда у него освободится язык для речи…
Но в один из вечеров, когда бабушка заставляла его слушать (ей казалось, что говорит она благородным литературным языком и что это будет для внука хорошей школой), а он все пытался встать и походить по двору, пришла робко соседка и обратилась за чем–то к бабушке, назвав ее «тутамулло» [1] Тутамулло — так бухарские таджики обращаются к старой почтенной женщине, чтобы подчеркнуть ее ученость.
, и бабушка встала с улыбкой, чтобы принять гостью. А он, пока женщины разговаривали, все думал, почему же так назвали бабушку и она ничуть не обиделась, наоборот… Значит, она и есть тот самый ученый Попугай, который рассказывает свои истории, а он… он может смело начать говорить и никогда не станет болтливым…
Эта догадка так обрадовала его, принесла такое облегчение, уняла страх, что, возможно, и заставила его наконец заговорить, и первое, что он сказал внятно, было обращение к бабушке:
— Ты тути [2] Тути — попугай.
, — лукавое и непосредственное.
Бабушка от удивления и восторга ничего вначале не поняла и стала поправлять его нетерпеливо и властно: — Тута… скажи: тутажон. — Но вот ее осенило, она рассердилась, потом засмеялась над милой игрой слов, позвала мать, чтобы этими первыми словами внука лишний раз подчеркнуть свою правоту; мать прибежала, радостная и испуганная: вот видишь, к какой неразберихе приводит, когда в доме говорят на двух языках, называют ее попугаем, но затем бабушка смирилась, ибо мать сменялась и целовала его.
— Ладно, называй меня как хочешь, только не молчи, — разрешила ему бабушка от доброты душевной, и день этот был для него еще одним освобождением — ему не запрещалось теперь самому ходить по двору.
Двор он уже успел рассмотреть, когда в редкие часы после вечерней прохлады его выносили сюда и сажали на старую кровать, стоящую на политых плитах.
Кровать эта стояла тут всегда, в любую минуту; когда отодвигали шторы на окнах, он видел ее возле кадки с олеандром. Днем она нагревалась и поскрипывала ржавыми пружинами на солнце, вечером медленно остывала, на нее лил дождь; и снег, прежде чем покрыть остальную часть двора — закопанные в теплую землю кусты виноградника, кусты роз, навес, из–под которого, раскачиваясь сами собой, хватали снег на лету качели брата, — засыпал эту кровать, и она казалась вечной мученицей.
В самом деле, почему никто не покроет ее в холода старым ковриком, кровать, где, по рассказам бабушки, родился, рос, состарился и умер его дед. А ведь он любил говорить во сне — может, он делился чем–то с кроватью, которая видела, как он родился; бабушке же просто казалось, что это он сам с собой, сонный…
И вот когда его заставляли по вечерам сидеть на этой кровати, он напряженно внимал, желая услышать от кровати какую–нибудь тайну деда. Дед умер раньше, чем он родился, и поэтому должен же он что–то сообщить внуку важное, настолько важное, что не мог он передать это через бабушку, которая тоже смертна, или через маму, а нашептал кровати, что стоит тут во дворе всегда.
Читать дальше
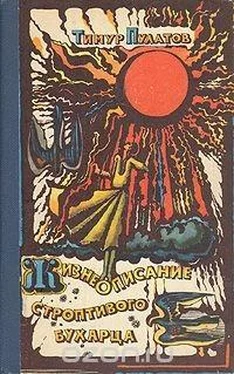





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



