Но о чем же петь?
— Тю, чудной! — удивился Кердода, и его скуластое лисье лицо было веселым и лукавым. — Да никто песни толковой не знает!
— Разве не знает? — спросил Ткаченко.
— А теперь бала-бала вместо песни, — ответил Кердода.
— Нет, надо хорошую песню, — сказал Ткаченко. — Я ухожу.
Он бодро улыбнулся.
— Куда ты от нас уйдешь? — громко спросил Лебеденко. — Мы с тобой до смерти здесь пробудем! Верно, Саня?
Он обнял Ткаченко. Серые капли дождя текли по его черным щекам, толстые запекшиеся губы держали грубое привычное выражение деловой доброжелательности. В душе Лебеденко был замкнут, там болело свое.
— Я от вас ухожу, — повторил Ткаченко. — Я уже место нашел.
— Даже место нашел? — засмеялся Лебеденко. — Во даешь!
Он еще бы много сказал, но Ткаченко его попросил:
— Ты все знаешь. Спойте на прощание.
Лебеденко промолчал. Он не стал утешать. Ткаченко не желал утешений, да и что было в них толку?
Он насупился и запел:
Степь да степь кругом.
Путь далек лежит.
Там в степи глухой
Умирал ямщик.
— Не-не! — перебил Кердода в ту секунду, когда Лебеденко надеялся, что ему подпоют. — Это по пьянке петь!
— Много ты понимаешь, — с досадой сказал бригадир. — Народная песня, понял!
— Все равно только по пьянке поют! — стал дразнить Кердода и, выбежав вперед, повернулся, хлопнул в ладоши, потом хлопнул по коленям и пошел задом наперед, смеясь Лебеденко и пританцовывая.
Где же это видано,
Где ж это слыхано?
Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,
На высокую поличку взнес!!
Кердода размахивал руками, как в лезгинке, потом подбоченился и задробил ногами на месте, играя плечами. Ремешок самоспасателя сполз с плеча на локтевой изгиб. Кердода стряхнул самоспасатель на землю.
Безрукий клеть обокрал,
Глухому в окно подавал,
Безносый табак нюхал,
Безгубый трубку курил,
Немой за старостой пошел?
И-эх!
Он крикнул это «и-эх!» так неистово и лихо, что у него перехватило горло. Он мотнул головой и заперхал.
— Хм! — одобрительно сказал Лебеденко. — Все-таки есть в тебе искра божья, чертов Кердода! Вот только все наперекор лезешь…
— А искусство свободно, — ответил Кердода. — Это тебе не «Жигули».
— При чем тут «Жигули»?
— А при том. Хорошая, видать, машина?
— Брось ты эту машину! — попросил Ткаченко с властью в голосе, которую неожиданно почувствовал в эту минуту. — Давай еще.
— Хорошая машина! — как будто вызывающе сказал Лебеденко. — Вчера за сорок минут был в Жданове. Море теплое. Жалко — цветет.
— Ты раб вещей, Николай Михайлович, — ответил Кердода. — Оттого ты всегда смурной. Это смертельная бацилла двадцатого века.
— Дурак ты, — отмахнулся Лебеденко. — «Двадцатого века»!.. Ты бы лучше так пахал, как языком чешешь.
— А, задело! — вымолвил Кердода. — То-то и оно. — И, поглядев на Ткаченко, кивнул: — Что тебе выдать?
— Ну эту… — задумался Ткаченко, и на его стянутом коркой лице опустились веки и поднялись, открыв сияющие белки.
Лебеденко ждал, что тот захочет печальную, тоскливую песню, и понимал, что надо будет поддержать, угрюмо и дружно рвануть хором что-то похожее на «ты, товарищ мой, не попомни зла», но настроение после того, как он вспомнил ночь на море, стало поганое. Уж лучше бы не бахвалился.
— Эту… — сказал Ткаченко. — Что дети любят. Помнишь?
— Что дети любят? — переспросил Кердода. — Да какую же?
— Разве не помнишь? Ты моей Машке пел, она смеялась… Ну?
Кердода неуверенно улыбнулся:
— Кажись, припоминаю. Как начинается? «Что задумал наш комарик жениться…»?
— Во-во! — кивнул Ткаченко. — А как дальше?
— «Что задумал наш комарик жениться, что задумал наш комарик муху взять», — покачивая головой, проговорил Кердода. — Оно?
— Нет, не оно. Забыл ты, забыл…
А Ткаченко не забыл: десять лет назад в воскресенье перед майскими праздниками он пошел с Машкой гулять в парк. Утром было свежо, солнечно и пахло талым снегом. Ночью стукнул небольшой заморозок. На деревьях уже разворачивались листья, но ветки еще оставались голыми, словно чернота зимы и зелень лета не уступали друг другу. Машка в своем красном пальтеце бежала по мосту. Вода в пруду блестела и играла. Чувствовалось, что холодная весна достаивает последние дни и что лето близко. А Ткаченко не терпелось ждать. Он не любил непостоянную промозглую донецкую зиму, с морозами, сырыми оттепелями, сквозняками в шахте. Он спускался под землю в сумерках утра и поднимался наверх в вечерней темноте, и потому все зимы были долгими сумерками… Возле карусели слышалась музыка из репродуктора. Со стороны стадиона, куда вели широкие террасы ступеней, украшенные железобетонными фигурами мужчин и женщин, доносилось быстрое эхо. Но это было не настоящее эхо, а другой репродуктор, установленный где-то в глубине. В холодном ясном воздухе стоял какой-то праздничный гул. Ткаченко было тридцать лет. Машка ждала воскресного праздника, и ему хотелось подарить ей его, чтобы она запомнила надолго. Они катались на карусели, на чертовом колесе и потом ели мороженое. Вот-вот должно было случиться чудо. Но больше в парке не было никаких развлечений. Время подошло к обеду, и девочка заморилась. «Папа, я устала», — призналась она. «Сейчас, Машка!» — сказал Ткаченко. Она была в румяной испаринке. Он присел на корточки и расстегнул ее пальто. Ему тоже стало жарко в плаще, спину припекало солнцем. Они разделись, как будто освободились. «Это лето пришло, Машка! — сказал Ткаченко — Мы его первые увидали!» — «Правда, папа?» — засмеялась она. «Конечно, правда. Сейчас мы будем искать ландыши». Но не знал, растут ли в парке ландыши, и, поглядев на прошлогодние листья и робкую траву, сошел с дорожки, взял прутик и стал искать.
Читать дальше


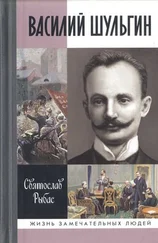

![Святослав Рыбас - Зеркало для героя [сборник]](/books/414715/svyatoslav-rybas-zerkalo-dlya-geroya-sbornik-thumb.webp)