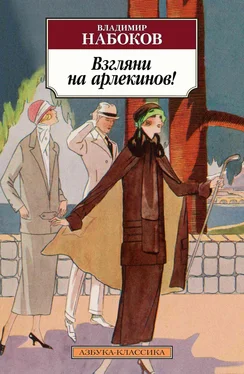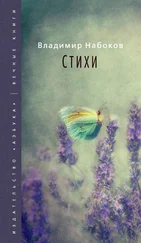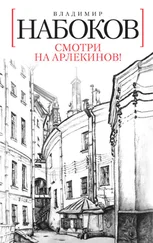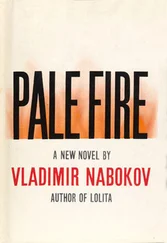Стихи в романе — служат композиционным целям не менее действенно, чем приемы поэтики умолчания. Кроме того, они указывают на неподвижность времени в романе. Самые последние стихотворные строки В. В. в финале романа («Так вдоль наклонного луча / Я вышел из паралича») возвращают нас к гл. 4, ч. I, в которой описывается ночное умопомрачение героя («Одного лишь намека на слабую световую полоску в поле моего зрения было довольно, чтобы спустить курок чудовищной боли, разрывавшей мне мозг»; «…неизбежно оставалась какая-нибудь чертова щелка, какой-нибудь атом или сумрачный лучик искусственного уличного или естественного лунного света…»); строка из стихотворения Беллы «и умница тропка» (гл. 3, ч. IV) — ведет к той тропе, что вывела юного героя за пределы Советской России в начале романа; «в полоску шарф» из разоблачительного стихотворения Одаса (гл. 4, ч. IV) — к кембриджскому шарфу повествователя и к эпизоду с Оксманом, когда В. В. посещает мысль, что его жизнь — это «неудачная версия жизни другого человека… другого писателя» (гл. 3, ч. II). Больше же всего тем и мотивов романа охватывает стихотворение «Влюбленность», представляющее собой ни много ни мало краткое изложение всего его замысла: это и недоговоренность («И лучше недоговоренность…»), которую мы уже рассмотрели, и «ночная паника», и тонущий пловец (а также видение В. В. после коллапса: «…плот, на котором лежал я, нагой старик… скользящий в полную луну, чьи змеистые отражения струились среди купав»), и повторный сон о юной возлюбленной, который снится герою всякий раз, что он влюблен («покуда снится, снись, влюбленность»), и «потусторонность» («…моя фамилия начинается с „Н“ и имеет отвратительное сходство с фамилией или псевдонимом некоего… болгарского, или вавилонского, или, быть может, бетельгейзийского писателя, с которым рассеянные эмигранты из какой-то другой галактики постоянно путали меня»), и «этот луч», и финальное «пробуждение».
Макнаб, Наборкрофт, Наблидзе и т. д. — Как и криптограммы имени нашего повествователя (и названий его книг), имена многих (можно предположить, что всех без исключения) русских и американских персонажей — писателей (поэтов, критиков) поддаются дешифровке, нередко двуязычной. Особенность этого приема состоит в том, что русское имя, как заметил Омри Ронен, может отсылать к американскому автору (например, Сукновалов — к Рою Фуллеру, англ . fuller — валяльщик, сукновал) и наоборот (например, Ольден Ландовер — к Марку Алданову, настоящая фамилия которого Ландау). Кроме собственно меры загадочности того или иного имени (кто подразумевается под Оксманом, Райхом, Борисом Ниетом?), здесь трудность еще и в том, что сразу несколько персонажей могут указывать на одну реальную фигуру (например, Демьян Василевский, Христофор Боярский, Адам Атропович — на Георгия Адамовича) или на две различные, сближающиеся друг с другом ввиду сходства их отношения к Набокову. Например Джеральд Адамсон указывает и на того же «верного зоила» Адамовича, и на Эдмунда Вильсона (с которым Набоков смертельно рассорился в 60-х годах), умерших в один год — 1972-й (подробнее см. Примечания ). Принципы дешифровки (семантической, фонетической, аналитической, анаграмматической), как в классическом романе à clef, предложены самим автором, приводящим русские и английские названия своих книг (например, «Подарок отчизне» — «The Dare» — «Дар»), свой прозрачный псевдоним («В. Ирисин» — «В. Сирин») и постоянно обращающим внимание читателя на разного рода симметрии, зеркальные отражения, вывернутые наизнанку факты своей биографии.
Усилие мысли. Д. Б. Джонсон [2] обратил внимание на возможный источник главной заботы нашего повествователя — его неспособности совершить умозрительный поворот, меняющий правостороннее на левостороннее, — в рассказе Уэллса «Случай с Платтнером» (1896), не упоминаемом в романе. Школьный учитель Платтнер из-за случайного взрыва во время химического опыта оказывается в «ином мире», имеющем четыре измерения. Когда он возвращается к реальности, оказывается, что правая и левая стороны его тела поменялись местами: он, к примеру, может писать только справа налево левой рукой, его сердце бьется с правой стороны и т. д. Рассуждения Уэллса о право- и левостороннем в пространстве перекликаются со словами Айрис в гл. 8, ч. I:
«…разрешить дурацкую философскую загадку вроде того, что означает „правое“ и „левое“ в наше отсутствие, когда никто не смотрит, в чистом пространстве…». На этот вопрос взялся ответить Мартин Гарднер — другой вероятный источник этой темы в «Арлекинах», указанный Джонсоном, — в своей научно-популярной книге «Этот правый, левый мир» ( The Ambidextrous Universe , 1964, букв. перевод: Двуправорукий мир), которая была известна Набокову.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу