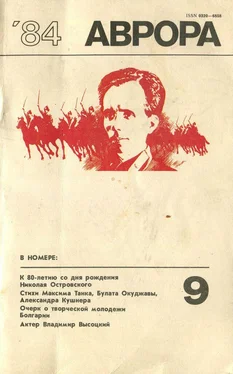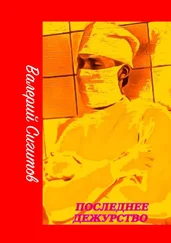«Может, мне в ремонтировщики податься? — думает Игорь. — Если что, в ткацкую, там интересней…»
Но это он думает не всерьез, а просто чтобы отвлечь себя. И на подъемнике ему неплохо. Старик, которого он сменил, лет десять пребывал в этой должности, с нее на пенсию ушел. Под мыслью о работе, как под тонкой кожицей, жарко пульсируют другие, сильные, тревожные. Игорь почувствовал сразу: здесь, на фабрике, иная жизнь, чем была в школе. То, о чем в школе не очень-то принято говорить, что больше подразумевается, чем принимается во внимание, на фабрике выступает во всей предметности своей. Шагнув через порог проходной, Игорь мгновенно передвинулся из круга сверстников, однокашников, почти во всем ему равных, в общество людей взрослых, бывалых, которые старше его и умом, и сердцем, и житейским опытом. Они не церемонились с Игорем, как школьные учителя.
Женщины и девушки на фабрике преобладали, и все, даже сверстницы, обходились с Игорем насмешливо, снисходительно, нисколько перед ним не стеснялись. В цехах было жарковато, и работницы не носили на себе лишних тряпок. После «глухих», целомудренных платьев и фартуков старшеклассниц тонкие ситцевые платья с глубокими вырезами, часто без рукавов, да еще и просвечивающие, когда прядильщица стояла возле окна, вгоняли Игоря в краску, так что через цех он ходил, потупив глаза. «Как монашек», — сказала о нем рыженькая дерзкая съемщица.
Надо было обвыкнуть, поставить себя. У ребят, что раньше его пришли на фабрику, Игорь перенял манеру держаться нарочито взросло, многозначительно, делать вид, что все ему тут нипочем. Ему так это удалось, что напускное безразличие перенес он и в дом, где жил с матерью и пятилетним братом, и в клуб на вечера танцев… Очень устраивала его эта манера, удобно было прятать под ней настоящего себя — семнадцатилетнего, чувствительного, ранимого, мечтающего о какой-то особенной, верной дружбе, как у Герцена и Огарева, и красивой, навек любви… Он и сам не заметил, когда защитная эта, прозрачная лишь для него корка начала трескаться и отваливаться с души, словно старая штукатурка… Может, еще в феврале, когда он шел на работу и плакал от резкого блеска снега, испещренного синими тенями и золотыми бликами, от круто-синего, будто летом, солнечного неба и совершенно особого ветра, в котором мешались, попеременно перебарывая друг друга, тепло и стужа. Он шел, жмурился так, что ресницы склеивались, и беспричинная радость переполняла его. Петь хотелось и прыгать по острым, твердым от наста, сугробам… Длилось это недолго, лишь до ворот фабрики, а там в глубину уходило, точно вода под землю. Домой он возвращался уже с другой радостью — тихой, сдержанной, усталой радостью хорошо выполненной работы.
Жизнь у него была хоть и несколько однообразная — работа, дом, друзья, танцы, книги, кино, — но зато спокойная, надежная. И вдруг словно опора ушла из-под ног. Ни покоя, ни надежности. Вроде бы и под его жизнью трещит и проламывается лед, прежде неколебимый, твердый, а нынче весь источенный вешними водами, теплыми ветрами и все более неутомимым солнцем. Все зыблется, все, даже мелкое, мимолетное, будоражит душу. Пребываешь в тревожном, счастливом ожидании какого-то слома во всем жизнеустройстве, переворота судьбы, нечаянной встречи, нечаянного чувства. Смутно, беспокойно, порой иссякает терпение — уж скорей бы! А что скорей — неведомо, одно предчувствие…
Вечером Игорь открывает форточку, гасит свет, ложится и слышит сквозь ровные, сонные вздохи матери и бормотанье братишки робкий ребячий шепоток. И не верится, что это шепчет ручей на дороге за окном, проточивший в колее узкое, глинистое ложе. Ночь студит его, кроет стеклянно-прозрачным лаком, а он, пусть тихонько, а льется, гонит под ледком расплющенные воздушные пузыри. Хорошо и мучительно от освежающего хмельного чувства, в котором все вместе: и радость, и боязнь, и жажда жить долго, интересно, ничего не сторонясь…
Вчера, когда Игорь выставлял из кабины большие металлические ящики из-под пряжи, прошла мимо подъемника девушка. Ящик гулко стукнул о стенку кабины, девушка повернула лицо и усмехнулась — мельком, будто искорка вспыхнула и погасла, при этом глаза ее прищурились, а припухлые уголки губ приподнялись. Только и всего. А Игоря так и обдало горячей, расслабляющей волной.
Девушка скрылась в цехе, а он все стоял в дверях подъемника с ящиками в руках. Ну, с чего бы это? Ведь добрая сотня их проходила мимо всякий день — на смену, со смены, в столовку, и ничего, ровным счетом. И она, эта прядилка или съемщица, наверняка сто раз мелькала перед ним с тех пор, как он на фабрике, — и даже запомнилась. А сейчас вот точно околдовала, и не то что запомнилась— так и оттиснулась в душе: усмешливые темно-красные губы, смуглая кожа, удлиненные от прищура, черные, блестящие, будто жучки-плавунцы, глаза. Что значила ее усмешка? Может, ровно ничего, а может и много, столь много, что и не понять семнадцатилетнему юнцу. Вроде бы мельком глянула и все, враз увидела в нем, и явное, и скрытое…
Читать дальше