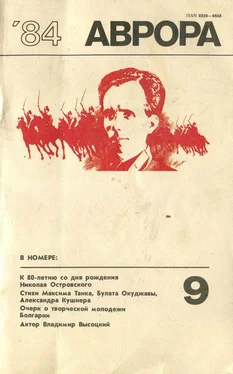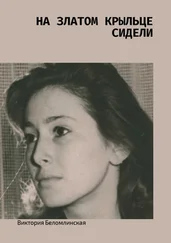— Перестань грызть передник! — рванула меня за руки Наташа и потащила в пустой класс. — Рассказывай по порядку! — И через минуту уже сокрушалась надо мной: — Что ж ты наделала! Мы ж хотели тебе рекомендацию в комсомол дать! Как ты могла!..
Потом, конечно, пришлось извиняться, я делала это плохо, в основном вымаливала книгу, до последней минуты не веря, что угроза не отдать ее была всего лишь педагогическим приемом Ираиды Васильевны…
Настоящего примирения не получилось, но, к счастью, нам предстояло скоро расстаться навсегда — учебный год кончался, в следующем у нас, уже старшеклассников, урока пения не было.
Через несколько лет я уезжала в Москву поступать в театральное училище. Перед самым отъездом выяснилось, что на приемных испытаниях по искусству, так называемых турах, мне непременно придется петь. Практически я была обречена на провал. Вот когда я вспомнила об уроках пения, которыми, если соединить излюбленные выражения моего папы и Ираиды Васильевны, «нагло манкировала». Ведь могла же я выучить хоть одну песню, хоть как-нибудь — она, Ираидушка, наверняка была бы счастлива, если бы заметила, что силюсь, тужусь, — она бы в лепешку разбилась, но вдолбила бы в мою безухую голову хоть какую-нибудь простенькую песенку. Так с тоской думала я, и мне даже пришла в голову мысль пойти в школу, разыскать Ираиду Васильевну и… Но было ужасно стыдно, чем больше я об этом думала, тем больше я вспоминала такого, от чего становилось еще стыдней, и я не шла. Но покуда я вспоминала, сквозь раскаянье в жестокости, с которой я, мстя ей за сбою отчужденность от мира звуков, напоминала о ее безголосье, в грубости, наконец, просто в пренебрежении к предмету, — покуда я все это вспоминала, в меня вдруг прокралось еще одно воспоминание: оно взволновало меня, словно потребовало к ответу, призывало к преодолению…
И я пошла в школу. Занятий уже не было, но отпускное время для учителей еще не наступило и в канцелярии я отыскала Ираиду Васильевну. Мы долго говорили с ней — сначала больше я, а она только, удивленно вздернув жиденькие бесцветные бровки, слушала, потом она говорила, а я смотрела на нее, изо всех сил стараясь не зареветь — какой-то странной болью отзывалось во мне все: и ее тоненький голосок, и жиденькие легкие кудельки на голове, и полинявшая голубизна глаз…
— Конечно, это не совсем песня, — сказала, наконец, Ираида Васильевна. — Скорее это речитатив. Но давай попробуем.
И представьте себе: она слишком хорошо меня знала, чтобы тратить драгоценное время на бесплодные усилия. Она сразу взяла лист бумаги и сама широко и размашисто написала на нем слова песни. Потом она села к пианино и, аккомпанируя себе очень медленно, беззвучно шевеля губами, словно что-то нащупывая во рту, склонилась над листом и что-то писала между слов, над словами, между строк. Потом она протянула этот листок мне. Не знаю, можно ли совершенно глухого научить петь по такой подробной росписи. Мне кажется можно: на листе были даны скрупулезнейшие указания моим голосовым связкам, языку, губам — словом, я должна была запомнить мотив не на слух, а какой-то другой, механической памятью. Мы занимались с ней каждый день до самого отъезда. Я то ликовала, то приходила в отчаянье, и она меня подбадривала:
— Ничего, ничего! У тебя есть чувство, ты выразительно поешь. Но сейчас это не нужно: сейчас старайся, чтоб было только правильно…
Но если бы я знала, что это значит — петь правильно!
— Дома, — говорила Ираида Васильевна, — не произноси слов, пой беззвучно, только точно выполняй указания.
Это было мучительно. Наблюдая за мной, сестра пожимала плечами и как-то скептически морщилась. Никто, кроме папы, не верил в успех моих усилий. А папа верил.
— Ну почему? — спорил он с мамой и сестрой. — У меня вот тоже нет слуха, но я же научился… Если человек очень хочет… — он понимал меня вполне. И, ободряемая им, я трудилась без устали. Я даже сама предложила Ираиде Васильевне усложнить наши занятия.
Но вот я простилась с ней, расцеловалась на вокзале с мамой, которая почему-то без конца качала головой вслед уходящему поезду, словно говоря: «Нет-нет, ничего из этого не выйдет», — и вот я стою перед членами приемной комиссии, замечательными, любимыми, знаменитыми артистами, я уже прочла стихотворение и басню, и теперь меня спрашивают, что я буду петь. Я называю песню и кто-то спрашивает:
— А что-нибудь другое, помелодичнее?
Я говорю: «Нет» — и иду к роялю.
Читать дальше